13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Бальтазар фон, Ганс Урс
Бальтазар фон, Ганс Урс Теология истории
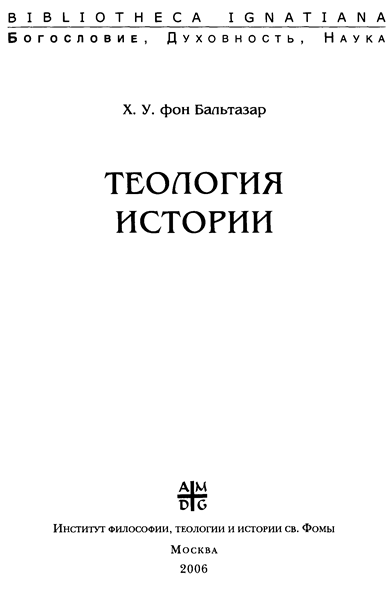
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
X. У. фон Бальтазар
ТЕОЛОГИЯ
ИСТОРИИ
Москва
2006
Содержание
Предисловие к новому изданию 7
ВВЕДЕНИЕ
в. Уникальное как историческая норма 18
I. ВРЕМЯ ХРИСТА
б. Время Христа и время человека. Вера 36
2. ВКЛЮЧЕНИЕ ИСТОРИИ
В ЖИЗНЬ ХРИСТА
3. ЭКЗИСТЕНЦИЯ ХРИСТА КАК НОРМА ИСТОРИИ
в. Таинства 83
г. Христианская миссия и церковная традиция 89
4. ИСТОРИЯ ПОД ЗНАКОМ НОРМЫ ХРИСТА
б. Внутреннее напряжение эйдоса и церковные состояния 103
в. Эйдос в трансцендентном. Божественное состояние 105
г. Эйдос в имманентном. Мирское состояние. Прогресс вертикальный и горизонтальный 111
д. История спасения в профанной истории 118
ж. Рыцарь Апокалипсиса. Господь и его Невеста 128
ПРЕДИСЛОВИЕ
К НОВОМУ ИЗДАНИЮ
Первое издание этого небольшого очерка страдало тем недостатком, что своим названием обещало больше, чем имелось в виду изложить. Строго говоря, его следовало озаглавить «Начала теологии истории», и речь в нем должна была идти лишь об отношении Христа в его христологической временности к общему времени человеческой истории, а также о времени Церкви, опосредующем эти два плана и понятом как осуществляемая Святым Духом универсализация временно́й — но тем не менее прообразующей — экзистенции Христа. Подобный подход соответствует взгляду, направленному строго сверху вниз, поэтому собственно тварное содержание всего оформленного христологическими категориями скорее предполагалось, чем выявлялось, так что подразумеваемая названием общая перспектива теологии истории, вырастающей в целое из двух порядков — творения и спасения — не могла быть развернута достаточно широко.
В новом издании (начиная с Введения и далее — в основной части текста, во многом углубленной, и в более подробной заключительной главе) сделана попытка, не выходя за тесные рамки очерка, восстановить равновесие таким образом, чтобы, пусть бегло, наметить область пересечения обеих сфер и тем самым — их общий образ. Дальше сказанного наши намерения и на этот раз не заходили; поскольку же затронутые с разных сторон вопросы настоятельно требуют более тщательной проработки (так, ссылки на Библию не разъясняются, немногочисленные цитаты зачастую выглядят как намеки), автор не исключает возможности вернуться впоследствии к тем или иным аспектам темы.
Базель, Рождество 1958 г.
7
ВВЕДЕНИЕ
а. Сущность и история
Едва научившись философствовать, человеческая мысль при постижении вещей стала принципиально делить их на две составляющие: на фактическое, т.е. единичное, чувственное, конкретное, случайное, — и всеобще-необходимое, чья универсальность определяется его статусом как абстрактного, закономерного и значимого, отвлеченного от всего единичного и потому господствующего над ним. Эта схема стоит у истоков западноевропейской мысли и, по-разному видоизменяясь, сохраняется на протяжении всей ее истории. И хотя по видимости она соответствует как природе познания, так и структуре бытия (Платон, Аристотель и их последователи рассматривали эти две категории как нечто внутренне единое), все же она отражает лишь тип дискурсивного (а не непосредственно интуитивного) мышления, которое воспринимает реально существующие вещи как явления некой сущностной структуры и сущностной закономерности, организованных по родовидовому признаку.
Оба указанных момента в ценностном отношении предстают совершенно по-разному: акцент делается на (относительно) общих и необходимых сущностных законах, поскольку все фактическое, эмпирическое, принадлежащее к чувственному миру рассматривается обычно лишь как довольно запутанное переплетение закономерных линий, которые бывают прослежены мыслителем и (почти) полностью растворены в
8
9
сущностной сфере. Против такой видимой недооценки единичного факта рационалистической философией издавна выступает противоположное течение, которое носит историко-философское наименование эмпиризма и рассматривает действительное как уникально-конкретное и уникально-историческое, а отвлеченные сущностные закономерности — как результат неэффективной попытки нашего конечного разума покончить с фактической эмпирией, никогда полностью не преодолимой.
И все же очевидно, что и греческие, и христианские «рационалистические» системы вплоть до Канта и Гегеля всегда служили опорными столпами философии и воплощали более глубокий и «достойный» способ философствования, тогда как эмпиризм, недооценивающий силу прозорливой абстракции и ограничивший себя «чувственными фактами», составляет его поверхностную антитезу, на практике же дает истинной философии все новые и новые поводы для самоутверждения за его счет. Подобная оценка напрашивается сама собой, однако она не учитывает некоторых фактов из сферы мышления и бытия, пренебрежение которыми мстит за себя. Она напрашивается, поскольку более глубокое объяснение всего происходящего в мире явлений нам свойственно искать в мире сущностей: мудрые и искушенные люди всегда могут истолковать непонятное как манифестацию скрытого естества вот этого конкретного человека, или этого народа, или человека как такового — либо самого по себе, либо во взаимодействии с теми или иными космическими законами и констелляциями, которые управляют кажущейся случайностью. Сколь же упорна должна быть вера во все это, если ею отмечены и большие астрологические системы высоких культур древности, и
10
нынешняя суеверная приверженность к «столетнему календарю»! Такого рода успокоительная редукция к сущностным законам едва ли рассматривает фактически-историческое — поскольку оно сопротивляется подобному растворению — как нечто положительное, скорее, в нем видится некое препятствие для развития мысли. Гегель предпринял великолепную попытку полностью покорить царство фактов, историю, с помощью разума, интерпретировав всю последовательность и констелляцию фактов естественной и человеческой истории как явление всеобъемлющего разумного духа, который разумен также — и как раз! — в своих фактических проявлениях. Это можно понять как величайшую честь, оказанную исторически-фактическому со стороны разума, поскольку теперь оно уже не ставится вне законополагающего разума как нечто принадлежащее исключительно миру явлений, но трактуется как осмысленная манифестация самого разума (который, таким образом, нуждается в подобном явлении, чтобы быть разумом и опосредовать самого себя). Но с тем же правом мы можем воспринять этот подход как крайнее обесценивание фактически-исторического, так как разум окончательно сводит его на нет и таким образом для истинного творчества и свободно действующей личности места более не остается: по меньшей мере один путь ведет от Гегеля к Марксу. Однако для нас этот путь не является выходом, поскольку диалектический материализм далек от серьезного отношения к эмпирическим фактам и событиям: как раз он наиболее деспотично подчиняет их абстрактным и механистическим законам развития, которыми лишь заменяются старинные «сущности» (essentiae) и куда более свободные телеологические закономерности, с ними сопряженные.
11
Тому, кто берется интерпретировать историческое в его всеобщности, приходится — если он хочет избежать впадения в гностическую мифологию — предположить наличие действующего в истории и самого себя раскрывающего всеобщего субъекта, который одновременно является общезначимой нормополагающей сущностью. Таковым может быть либо сам Бог (который, однако, не нуждается в истории для самоопосредования), либо человек (т.е. свободно-деятельный субъект, тот или иной индивид; но последний не может, разумеется, управлять историей в целом). Имеет место диалектика человеческого существования, которая связывает уникальность каждого конкретного человека со всеобщностью его человеческой сущности. Эта диалектика весьма запутана, потому что сущность не может быть реализована и даже помыслена иначе, как всякий раз в уникальном, и потому, с онтологической точки зрения, ничто из того, что составляет уникальность отдельной исторической личности, принципиально не может выпасть за пределы сущности. (То обстоятельство, что через крупные и нечеткие ячейки всякого логического определения сущности многое все же выпадает, относится уже на счет структуры этих определений.) Именно эта диалектика побудила еще Фому Аквинского говорить об individuatio ratione materiae и разрешать указанную трудность исключительно в рамках сущностной структуры1. Во всяком случае,
1 В противном случае следовало бы рассматривать материю как лишенную сущности, а трансценденцию единой телеснодушевной формы — как до такой степени единичную, что открытость в сторону материи и открытость в сторону бытия-в- целом вместе должны составлять отличительно человеческий образ земного бытия. ![]()
12
эта диалектика, если рассматривать ее применительно к истории, приводит к чрезвычайно таинственному понятию коммуникации и взаимного общения (communie) всех свободных личностей, обладающих одной и той же метафизической сущностью, внутри этой сущности, так что последняя, если она представляется как исторически реализованная, должна разворачиваться в общей судьбе всех личностей, ее составляющих.
Но подобная общность судьбы свободных личностей, коммуницирующих внутри единой сущности, может быть помыслена не иначе, как «демократическая», — во всяком случае, с философской точки зрения. Всякая личность (в том числе умственно неполноценная или личность рано умершего ребенка) имеет в метафизической человеческой сущности строго равную долю, другое дело, что все они раскрываются в разной степени. Рассуждая философски, можно во всяком случае утверждать, что каждый отдельный индивид, наделенный личным разумом и свободой, пребывает в солидарности со всеми людьми, что все его решения не проходят для их общности бесследно, но при этом никакой индивид не может возвыситься и возобладать над остальными, иначе как подвергнув метафизической угрозе их человеческое бытие и унизив их достоинство. Трудно поэтому согласиться с мнением, что относительное возвышение Адама над всем его потомством и связанный с этим догмат о наследственном грехе доступен уже для спекулятивного разума и может быть им самостоятельно обнаружен. Разум может в лучшем случае подняться до несовершенного истолкования, на котором предпочитают останавливаться некоторые протестантские авторы (Кьеркегор, Эмиль Бруннер): каждый человек есть Адам, каждый в
13
равной мере участвует в первоначальном отпадении от Бога и разделяет общую вину. Однако, с философской точки зрения, представляется невозможным, чтобы отдельная человеческая личность, которая является не чем иным, как экземпляром человеческого рода или вида (причем к достоинству этого вида принадлежит то, что все его экземпляры суть уникальные личности), могла — самостоятельно — возвыситься до положения господствующего центра, принципиально поднятого над остальными личностями и над их историей. Поэтому, хотя более глубокое размышление обнаруживает негативный аспект, обусловленный переплетением личностных и социальных факторов, — аспект греха, все же позитивный аспект, аспект спасения всего человеческого рода, может быть признан за одним человеком (как учредителем религии и «спасителем») — при условии, что он обладает религиозной гениальностью, чтобы впервые почувствовать и указать всеобщий и для всех доступный «путь спасения». Подобный путь может быть историческим лишь во внешнем отношении. Он должен, если ему действительно придается смысл всеобщности, в качестве такового корениться в самой сущности: человека, судьбы и космоса в целом.
б. Абсолютно уникальное
Названная непреодолимая граница, устанавливаемая и неукоснительно соблюдаемая философской рефлексией, есть как раз то, что препятствует полному раскрытию в вещах и в мире полюса фактичности и историчности, выдвигая на первый план полюс всеобщих сущностей. Взорвать эти рамки могло бы только непостижимое и неуловимое для философской мысли
14
чудо: бытийное сопряжение Бога и человека в одном субъекте, который — как таковой — может быть лишь абсолютно уникальным, поскольку его человеческая личностная структура2, не будучи ни разрушенной, ни искаженной непосильным напряжением, была бы тогда возведена до божественной личности, которая в ней воплощается и раскрывается. Однако это возведение в личную внутрибожественную жизнь не означает изъятия индивидуума из круга ему подобных (как, скажем, Илия был забран от людей в огненной колеснице) и не подразумевает перевода нормальной человеческой сущности в некий более высокий сущностный ранг, что от сотворения мира было бы невозможно, являлось бы арианской ересью и отменяло бы как раз то, что предполагалось обосновать: спасение обычной, тварной человеческой природы.
Поэтому возведение «единичного» человека в ранг уникального (μονογενής) могло осуществиться лишь более глубоким склонением самого Бога, Его нисхождением, унижением, кенозисом и, наконец, этим ответственным вхождением в «единичного» человека, который, даже будучи единственным, все же остается человеком среди других таких же людей. Речь идет не о
2 Под последней подразумевается психологичесий центр свободных и разумных человеческих действий, который, однако, не был бы таковым, не будучи также и онтичным центром. Лишь поскольку в подобном онтичном центре обыкновенного человека дает о себе знать известная ограниченность, постольку может — при возведении человеческой природы Христа в личность Сына Божия — идти речь об снятии (Aufhebung) личного человеческого бытия, что для Христа означает не редуцирование, но отрицание отрицания, т.е. обоснование его деятельностного центра абсолютным и божественным центром самого Логоса, иначе — небывалое освобождение.
15
внешнем приспособлении, как подсказывает поверхностное толкование пассажа о кенозисе Флп 2, 6—7 (как если бы Христос, будучи сам по себе чем-то «лучшим», перенял «внешний вид» и «поведение» обычного человека), но о том, что «Он должен был во всем уподобиться братиям» (Евр 2, 17), «сострадать нам в немощах наших» и быть, «подобно нам, искушенным во всем, кроме греха» (Евр 4,15). Дважды употребленная лексема [«подобие»] выражает и равенство, и сходство, т.е. мост между обеими сторонами, уподобление вплоть да совпадения.
Поэтому возвышение Христа над остальными «братьями» и причастниками человеческой природы нельзя толковать односторонне, так, будто уникальность ставит под угрозу communio внутри общего, а аналогия в конкретно-историческом поглощает собою тождественность сущности. Когда Карл Барт определяет человека Христа как «человека для людей», всякого же другого описывает как «человека с людьми», то при всей глубине этого замечания (сводящегося к тому, что человеческая природа Христа целиком занята Божиим деянием спасения и подлежит толкованию исходя именно из этого) сохраняется опасность свести понятие корреспонденции между Христом и каждым человеком всего лишь к аналогии сущности. Ближайшим следствием этого было бы то, что «братья» уже не участвовали бы в Божием деянии во Христе — вочеловечении, кресте, воскресении, — как это предполагается католическим учением. Чтобы аналогия между уникальностью Христа и нашей множественной человечностью не упразднила тождественность природы, необходимо, чтобы восхождение человеческой природы в Бога было глубже обосновано через нисхождение
16
Бога в человеческую природу. Тогда также впервые станет понятно, почему в уникальности Христа может быть заключено спасение нашей множественности: человечность Христа, как говорит Фома, есть instrumentum conjunctum для спасения человеческой природы в целом.
Здесь намечается решение нашей исходной проблемы соотношения между исторически-конкретным и абстрактно-закономерным. Очевидно, что, если «один из нас» бытийно един с Божиим словом и Божиим спасительным деянием, то тем самым он, именно в качестве уникального, возвышается до статуса нормы нашей сущности и нашей конкретной истории — истории каждого индивида и всего рода. Но как же тогда быть с сущностными законами природы? А поскольку природа обнимает уникальность каждой личности, ее свободу, разум, религиозность, то спрашивается: как быть с личными историческими деяниями, «ситуациями» и заложенными в них закономерностями? Здесь необходимо выдвинуть два утверждения. Уникальность Богочеловека, который по своей природе является нормой человеческого естества (а его природа образует конкретное единство с достоинством и «достохвальностью» человеческих деяний), — это, собственно, и есть, с чисто человеческой точки зрения, уникальность одного человека. Абсолютная уникальность Бога, которая соединяется с человеческим естеством Иисуса, использует, для того чтобы явиться миру, относительную уникальность этой исторической личности, данную через ее человеческое бытие. Деяние, с помощью которого абсолютная уникальность Бога завладевает относительной уникальностью человеческой личности, основано на
17
аналогии творения, которая является условием того, что уникальность Спасителя, как причастная абсолютной уникальности Бога, вообще может быть понята всем множеством людей. Таким образом, мы приходим к неизбежному заключению, что абстрактная общезначимость нормативных законов, коренящихся в человеческой природе, — поскольку Иисус Христос есть истинный человек — совершают вместе с ним и в нем вознесение (assumptio) — вплоть до единства с личностью Божия Слова. Это возвышение не означает ни разрушения общезначимости этих законов (так как человеческая природа подлежит все же спасению, а не уничтожению), ни их индифферентного сохранения наряду с конкретной нормой Иисуса Христа; скорее, в нем абстрактные сущностные законы, не будучи сняты, включаются в его христологическую уникальность, подчиняются ей, регулируются и оформляются ею. Невозможно развивать естественную метафизику, естественную этику, естественное право, естественную историческую науку так, словно Христос не является конкретной нормой всего; но равно невозможно и установить безотносительную «двойную истину», допуская ситуацию, при которой теологи и светские специалисты работали бы над одним и тем же предметом, и их методы при этом нигде бы не сталкивались и не пересекались; и, наконец, нельзя растворить светские науки в теологии, полагая, что это делает ее единственной компетентной дисциплиной, — и это потому, что единственной конкретной нормой является Христос. Именно потому, что Христос является абсолютной и уникальной нормой, его присутствие остается несоизмеримым с мирскими нормами, и это делает невозможным никакой мирской договор между
18
теологией и остальными дисциплинами. И сколько бы упреков в высокомерии ни предъявлялось теологии из-за ее отказа от подобных договоренностей, такой отказ есть не что иное, как методическое требование, исходящее из самого ее предмета.
в. Уникальное как историческая норма
Полученная формула столь же непререкаема, сколь таинственна. Непререкаема она потому, что подчиняет всякую внутримировую норму, ее значение, ее применение и исследование — «индивидуальному закону» уникальности Иисуса Христа, т.е. откровению свободной, конкретной воли Бога, направленной на мир. Таинственность же ее в том, что, согласно этой формуле, указанное притязание на господство (κυριότης) проистекает из (ни с какой научной высоты не обозримого и не могущего быть оцененным) таинства бытийного (ипостасного) единения божественной и человеческой природы во Христе, каковое таинство отбрасывает отныне, под тем или иным утлом, свой свет и свои тени на все внутримировые значимости. Ибо не все стоит в одинаковой близости к центру богочеловеческого единения, и таким образом, в свою очередь, возникает аналогия между областями, в которых уникальность Христа полностью заливает своим светом и практически замещает собою абстрактно-всеобщие закономерности’, и другими областями, относительная автономия которых коснеет, практически этим светом не затронутая, и которые подлежат лишь косвенному и эпизодическому надсмотру.
3 Которые, как было показано, продолжают актуально пребывать во Христе как возведенные горé.
19
Причины возникновения подобной аналогии уясняются, стоит взглянуть на ее центр, самого Иисуса Христа. В силу ипостасного единения в нем нет ничего, что не служило бы самооткровению Бога. Как центр мира и его истории, он есть ключ к истолкованию истории и в не меньшей степени — Бога. И это не только благодаря его учению, не только благодаря представляемой им истине (всеобщей или частной), но прежде всего и по существу — благодаря его экзистенции. Его слово и его экзистенция нераздельны; своей истиной он обладает лишь в контексте своей жизни, своего подвига ради истины и любви, увенчавшегося смертью на кресте. Не будь креста (и тем самым евхаристии), его слово не было бы истинным, не было бы тем свидетельством об Отце, которое содержит в себе и свидетельство самого Отца (Ин 8, 17— 18), двуединым христологическим словом, несущим в себе откровение триединой жизни и суверенное требование: чтобы в него поверили и следовали за ним. Эта тождественность слова и экзистенции возникла не из фанатического самообожествления (что было бы явным симптомом безумия); она есть служение и послушание Отцу и несет на себе все признаки этого послушания. Все сказанное прослеживается на исторической экзистенции Иисуса; для человеческого разума, не желающего закрывать глаза, эта уникальная, особая логика, Христо-логика, очевидна, даже если совершенно оставить в стороне второе Христово доказательство в подтверждение его миссии, которое опирается на согласованность предсказанного и исполненного (и содержит в себе также доказательство, основанное на эсхатологической харизматике, на чудесах, долженствующих быть сотворенными Мессией,
20
Лк 4сл.), благодаря чему он может доказать, что линии, по которым развивается история спасения, сходятся в нем как в своей кульминационной точке, что они подчинены его всеисполняющему смыслу и тем самым принадлежат его уникальности.
С помощью этих двух строго взаимообусловленных доказательств Иисус Христос подтверждает, что он, будучи уникальным, может являться Господом всех тварных норм в царстве сущностей и в истории. Поэтому, если мы хотим постичь Иисуса, нужно сразу же отбросить самую возможность абстракции, отвлечения от единичного случая, заключения в скобки несущественных случайностей исторического проживания, поскольку сущностное и нормативное заключено именно в уникальном. Да и в какое измерение мог бы быть помещен результат абстракции? Слово Иисуса совершенно не позволяет истолковать себя ни в общечеловеческом измерении (поскольку содержание этого слова отнюдь не вытекает из общечеловеческого, что имело бы место, если бы для открытия этой всеобщей истины требовалось всего лишь особое глубокомыслие), ни в измерении всеобъемлющего отношения между Богом и миром (каким оно, по нашему представлению, было при сотворении мира), так как Бог хочет сохранять в силе свое отношение к миру лишь там, где Иисус Христос является средоточием этого отношения, содержанием и исполнением самого вечного завета. Поэтому теология в строгом смысле ни от чего не может абстрагироваться и всегда должна выявлять нормативное содержание фактов, не подлежащих заключению в скобки. Там же, где она обращается к общим истинам, положениям и методам (а это будет происходить во всех ее ветвях), она должна
21
внимательно следить за тем, чтобы все это было строго подчинено созерцанию и толкованию уникального.
Трудно определить, где именно абстрактное и категориальное обретает внутри конкретности, присущей религии Христа, свой собственный ощутимый вес. В непосредственной близости Господа, во всяком случае, ничего подобного не происходит. Иисус столь же мало подпадает под категорию «спасителей», как Мария — под категорию «богородиц», мадонн-девственниц и матерей в одном лице, под архетип «мариологического вообще», пусть и получающего в лице Марии свое чистейшее воплощение. Можем ли мы поместить Иоанна Крестителя в категорию «предтеч» и тем самым приобрести некое более глубокое знание его сущности? Или привлечение этой категории уже само по себе лишь упускает его уникальность? Является ли Иезекииль индивидуальным представителем видового понятия «иудейские пророки», и составляют ли эти последние особый вид внутри религиозно-философской категории «пророк вообще», входящей в ведение социологии религии (столь успешно разработанной Максом Вебером)? Быть может, апостолы являют собой экземпляры понятийной парадигмы «сообщество учеников·«, которая нашла в них такое же выражение, как и в других экземплярах? Или частные отношения между Иисусом и Петром лучше уясняются через отношения общего типа учитель — ученик? А способ, каким Петр выполняет свою миссию, — становится ли он более понятен с привлечением общей «психологии исполнителя поручений»? Является ли вера любого христианина «частным случаем веры вообще», изучение которого относится к компетенции науки о человеческих взаимоотношениях? Все эти вопросы
22
получают отрицательный ответ — и не потому, что во всех приведенных случаях отсутствует подлинная аналогия между общечеловеческим законом и христианским частным случаем, но потому, что частный случай устроен таким образом (и это исходит от уникальности Христа), что в своей исторической обособленности он превратился в конкретную норму нормы абстрактной. В качестве примера можно, в случае пророка или апостола, четко установить переход, точку, в которой содержание общей категории настолько отступает и бледнеет, что в сравнении с исторически-уникальным содержанием становится совершенно незначительным, хотя при этом общее содержание не разрушается (gratia non destruit naturam),а поднимается над собой и завершается (elevat et petficit).
В Иисусе Христе Логос является уже не царством идей, значимостей и законов, правящим и смыслополагающим в истории, но самой историей. В жизни Христа фактическое и нормативное совпадают не только «фактически», но и «по необходимости», поскольку факт является одновременно и истолкованием Бога, и богочеловеческой парадигмой всякой подлинной человечности, обращенной к Богу. Факты не только составляют феноменальную притчу о некоем скрывающемся за ними учении, которое может быть выведено из них путем абстракции (что отчасти подразумевалось еще александрийской теологией); они, взятые в их глубине и целостности, суть сам смысл. Историческая жизнь Логоса (к коей принадлежит также его смерть, воскресение и вознесение) представляет собственно идейный мир, который, непосредственно или посредством редукции, нормирует всю историю, воздействуя не с некой внеисторической высоты, но
23
изнутри живого средоточия самой истории. Будучи рассмотренной с высшей и завершающей точки зрения, эта жизнь есть источник историчности как таковой, из которого исходит вся история — и до, и после Христа — и в котором она имеет свое средоточие.
Таким образом, историчность откровения Христа повышает ценность исторического полюса человеческой экзистенции, которая тем самым отчасти освобождается из неоправданного плена у неисторичной философии сущностей, отчасти же получает возможность, покинув чистую философию, приобщиться к фактологизму теологии. Правда, в настоящее время новая религиозно-экзистенциальная философия тоже сделала шаг за пределы прежней платонической схемы, открыв, — в известном смысле, обратив — сферу сущности, или Логоса, навстречу фундирующей ее сфере экзистенции, а эк-зистенцию сущности направив внутрь времени и истории, поскольку при-ход бытия (esse accidens, по выражению арабской схоластики), т.е. временность, а в религиозном отношении — распахнутость навстречу приходящей воле и велению Бога, — и есть та событийность, в которой изначально находит основание человеческое бытие. Является ли подобное мышление секуляризацией христианского принципа (т.е. неправомерным перенесением блага, подаваемого Откровением, в плоскость общей тварной истины и философской спекуляции) или, что представляется более оправданным и глубоким, оно является правомерным описанием типа отношений, которые при свете Откровения выявляются из самой христианской экзистенции: во всяком случае, теологу приходится признать редкостную близость экзистенциально-философской установки к его собственной.
24
Он, однако, не станет (например, вслед за Бультманном) принимать — полностью или частично — выводы экзистенциальной философии в качестве очевидных естественных предпосылок (приблизительно так, как схоластика приняла греческие мыслительные схемы), с тем чтобы попытаться сделать из них более удобный инструмент для интерпретации Откровения. Он — и это нечто уже совсем иное — интерпретирует установку экзистенциальной философии с чисто теологической позиции, т.е. позаботится о создании экзистенциальной теологии (тавтология!), независимой от течений, господствующих в тот или иной момент. Превзойдет ли подобная теология экзистенциальную философию негативно, тем, что разоблачит ее как форму распада некоей изначальной теологической посылки, или позитивно, предложив ей последнее обоснование, которого она не может выработать самостоятельно с опорой лишь на самое себя, — все это мало заботит теолога. Ибо теология должна формировать себя, не поглядывая искоса на философию, но с послушанием глядя на Иисуса Христа, чье положение во времени и истории она непосредственно должна описывать как ядро и норму всей историчности.
Вопрос о положении Христа во времени и истории не может получить разрешения в отрыве от второго вопроса: об отношении его экзистенции к истории мира и человечества. Этот последний сразу же распадается на два аспекта: (1) история вообще и история спасения в частности как «предпосылка» возможной историчности Христа и (2) историчность Христа как предпосылка самой возможности истории вообще и истории спасения в частности. В первом аспекте жизнь Христа предстает как исполнение истории в том смысле, что
25
являет себя индивидуально как полнота истории и что таким образом история вообще (включая историю спасения) и история Христа находятся в отношении обетования и исполнения. Во втором аспекте (который непосредственно следует из первого) на передний план выступает категория нормирования, подразумеваемая категорией исполнения: жизнь Христа становится нормой исторической жизни и тем самым — вообще всякой истории. Это нормирующее отношение опять-таки может быть рассмотрено с двух сторон: как качество того, кто составляет норму, т.е. Христа в присущей ему самому универсальности, неотделимой от его личной историчности и соотносящейся со всякой историей, — но также и как качество того, чтб нормировано Христом: христианина и Церкви, а в конечном итоге человека и истории в целом. Из всего этого вытекает четырехчастный состав этой работы:
1. Время Христа;
2. Включение истории в жизнь Христа;
3. Личность Христа как норма истории ;
4. История в свете нормы Христа.
26
I. ВРЕМЯ ХРИСТА
а. Экзистенция в принятии
«Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня» (Ин 6, 38). Это высказывание Иисуса о себе может быть понято как форма его экзистенции; можно интерпретировать его на основе множества других текстов, и прежде всего — Иоанновых. Смысл вочеловечения и человеческого бытия Иисуса яснее всего предстает как не-делание, не-исполнение, не-осуществление собственной воли. Эта сразу бросающаяся в глаза негативность состоит на службе у более глубокой позитивности, которая ее наполняет, но нигде — ни на следующей, ни на самой высокой ступени — ее не оттесняет. Это — исполнение воли Отца. Позитивность, в свою очередь, обретает свою всеобосновывающую основу в миссии, которая, таким образом, становится ключом ко всей экзистенции Иисуса.
В начале стоит отрицание. Сын ничего не может ни сделать (5,19.30; 12,49), ни сказать (7,17; 12,49; 14,10) от себя. Поэтому он творит не свою волю (5, 30; 6, 38), хотя имеет ее (5, 6; 17, 24; 21, 22 сл.), и, следовательно, не может быть понят как пустое вместилище для Бога. Он есть субъект, выразившийся во всей полноте самостоятельных высказываний о себе, наделенный личностным самосознанием, которое находит свое крайнее выражение в потрясающем «Я есмь», лишенном предиката (8,24.58; 13, 19). Однако он есть то, что
27
он есть, и базисом его личности остается кредо: «Не Моя воля! Не Моя слава!» (ср. 7,18). Его сущность как Сына Отца состоит в том, чтобы принять от другого, т.е. от Отца, жизнь (5, 26), знание (3, 11), Духа (3, 35), слово (3, 34; 14, 24), волю (5, 30), поступки (5, 19), учение (7, 16), дело (14, 10) и прославление (8, 54; 17, 22.23). Однако принять таким образом, чтобы все это иметь в самом себе (5, 26), распоряжаться полученным как своим (10, 18. 28), при этом не упраздняя акта принятия, но находя в этом вечно длящемся акте обосновывающее подтверждение самого себя. Если бы его имение хоть на один миг перестало совпадать с принятием, превратившись в его собственность, он сразу перестал бы быть Сыном Отца, тем, кто достоин веры, и должен был бы попросить людей более в него не веровать (10, 37).
Форма экзистенции, свойственная Сыну, которая еще «прежде бытия мира» (17, 5) сделала его Сыном, и есть это непрерывное принятие всего, что он есть, т.е. себя самого, от Отца. И именно это принятие себя дарует ему его Я, его собственное внутреннее пространство, его самопроизвольность, его сыновство, заключающее ответный дар Отцу. Подобно тому как акт рождения Отцом Сына является не излиянием в пустоту, но чистым посещением рожденного плода, также и самость Сына не есть получение чего-то вечно чуждого (это подтверждает и аналогия с тварным рождением), но принятие в дар интимно-своего. Однако он сообщается с Отцом не так, как земные сыновья с их родителями, т.е. только по человеческой сущности, но в вечно-непрерывном акте своего рождения, в котором он один есть и образ, слово, и ответное слово. Тем же самым актом, которым он получает самого
28
себя (а вместе — и свой божественный рассудок), он получает также всю отцовскую волю в ее отношении к Богу и миру и утверждает ее как свою собственную.
Если же, согласно Фоме, его миссия в мире (missio) есть явление его рожденности (generatio), заключенное в формы этого мира, то и образ его земного бытия есть не что иное, как явление в тварном пространстве, во-творение этой небесной формы экзистенции, т.е. земное бытие как принятие, как открытость воле Отца, как упорное — в порядке непрекращающейся миссии — исполнение этой воли. Как Сын на небесах не является прежде всего Лицом для себя, которое вторичным образом брало бы на себя служение Отцу, так и Сын на земле не является прежде всего человеком для себя, который вторичным образом открывался бы навстречу Отцу, чтобы прислушаться к его воле и исполнить ее. Нет, но то, что он есть открытый, принимающий, слушающий и исполняющий, делает его — правда, одним из людей, но именно благодаря тому, что делает его этим человеком. Сын на небесах не воспринимает и не использует свое личностное бытие как завершенное, но лишь как место принятия и ответа, и точно так же «самосознание» Вочеловечившегося не дано ему как предметное (он обладает им лишь для дарения Отцу и другим людям). Для человека Иисуса его ипостасное единение с Логосом не представляет религиозного содержания, тематизированого как таковое; скорее, образ его человеческого самосознания есть выражение, в формах этого мира, вечного сыновнего самосознания. Высказывания Иисуса о себе подтверждают это. В них не содержится попытки определить его особость, но все они служат выполнению его миссии. Данное описание таинства Богочело-
29
века (верное, как и все другие, лишь до определенного предела) не должно создавать впечатления, что человеческое самосознание Иисуса поглощается сознанием Логоса. Для природы и личности человека ничто не может быть в такой степени исполняющим и дароносным, как этот высочайший яро-образ человека вообще, который является образцом для всех остальных людей именно потому, что для него самобытие не превращается в тему (а значит, в проблему!), но до самого своего корня остается — молитвой. Лишь прообразу дано исполнить эту полную тождественность между принятием бытия — и молитвенным «да», сказанным Отцу, между бытием и актом, настигающим бытие; поистине, это и называется быть «выше всех» (Ин 3, 31). Однако благодать позволяет и всем остальным детям Божиим причаститься к этой троичной готовности («Sume etsuscipe»,по выражению Игнатия)4.
4 Если верно, что тварное земное бытие Иисуса вовлечено в акт того esse, в силу которого вечный Сын является самим собой, тогда самосознание Христа возвышается над самосознанием обыкновенного человека не только тем, что он видит Отца непосредственно («воочию»), — этим одновременно определяется и отношение его сознания к его бытию. Если обыкновенный человек— как творение и в особенности как материальное творение — лишь вторичным образом настигает и утверждает (а быть может, отчасти и критикует) сознанием свое бытие и сущность, то для Бога акт бытия и акт сознания суть совершенно одно, и потому в личности Логоса его бытийный образ в порождающем акте Отца изначально совпадает с его же бытийным образом в отвечающем сыновнем акте: «благодать» и «молитва» (в тварном аспекте) суть одно и то же, и к этому праединству причаствует — без ущерба для его истинной человечности (благодаря которой также его духовность развивается и выделяется из природы) — человек Иисус. Спасение целиком увязано с этой идентичностью, делающей возможным — и для
30
Восприимчивость ко всему исходящему от Отца — это и есть для Сына в его тварной экзистенции то, что называется временем и обосновывает временность. Она есть базисное состояние его бытия, в котором он неизменно открыт для принятия отцовского послания. Это состояние настолько не противоречит его вечному бытию как Сына, что в пространстве мира оно выступает как непосредственно понятное для мира и соразмерное ему откровение. Именно потому, что Сын вечен, он, явившись в мир, избирает для выражения форму временности — тем, что, возвышая эту временность, делает из нее точную, подходящую и адекватную форму выражения своего сыновства. Она представляет собой чистое и точное выражение того, что Сын в вечности усваивает себе исключительно то, что постоянно и непрерывно даруемо ему Отцом, что в непрекращающемся процессе принимается им от Отца и становится для Сына своим лишь в Отце и через Отца и потому постоянно предлагается и вновь возвращается Отцу, будучи воспринимаемо как всегда новая любовь. Напрасно поэтому было бы искать противоречия между временно́й и вечной формами экзистенции Сына. Или пытаться обнаружить противоречие внутри его тварной природы между низшей сферой, в которой он принимает дары и действует во времени, — и некой высшей, «вечной» сферой, в которой он безущербно покоится в себе и владеет всеми
Бога, и для нас — перенести тварный дуализм во всем его трагизме. Именно этой идентичности, которая ничего не замыкает, но все раскрывает, т.е. идентичности как молитве, история обязана тем, что она является в столь высокой мере образом и выражением Бога.
31
дарами. Другими словами: философия, которая пытается представить время как некий род видимости, как «форму наглядного представления», как нечто подлежащее просвечиванию, чтобы можно было, оттолкнувшись от временного, достичь некой предполагаемой надвременности, затвориться в мнимом замке вечности и окружить себя рвом, — такая философия, ввиду открытости Христа навстречу Отцу, должна быть отброшена5. Неверно, что Христос до Страстей жил во
5 Этим не отрицается, что человеческое время по причине участия человека во всех слоях космического бытия обладает весьма сложной структурой. Каждый слой имеет свою форму длительности, и, будучи все вместе интегрированы в человеческую сущностную форму, они, разумеется, образуют дифференцированное единство. Следовательно, нет ничего абсурдного в том, что с помощью специальных техник делаются попытки погружения, перехода от поверхностного восприятия времени к более глубокому опыту, ближе постигающему собственно духовное ядро души и воспринимаемому как почти божественная «вневременность». Философия затем использует этот опыт и истолковывает его общепонятным образом. Этот опыт (обещающий духовное возвышение над разрушенным временем и как следствие — подобие «бессмертия») совсем не обязательно является иллюзией, а его истолкование — ложным. Ведь и христианину по воскресении обещана некая форма длительности, в которой духовное время более не подчиняется телесному, но, овладевая телесным временем, его одухотворяет. Однако погружение, если сравнить его с этим исполнением времени в Боге, остается в буквальном смысле «абстрактным», поскольку оно воспринимает испытанную им форму длительности лишь как уход с плоскости общечеловеческой экзистенции, не будучи способным к возвращению (conversio ad phantasma) и синтезу. И все же можно сказать, что человеческое пространство-время, размыкаемое опытом духовной (сверх)длительности, а также религиозные надежда и обетование, которые этот опыт, возможно, в себе содержит, — составляют «всеобщий» антропологический базис для абсолютно уникального Христо-
32
времени лишь неким кажущимся образом, тогда как его «вечность» будто бы скрыто пребывала в глубине и внезапно проявилась лишь на Фаворе как «истина» его временно́й экзистенции. Именно структура его временности, которая на Фаворе была не упразднена, но лишь прославлена (имея в виду его Страсти), стала яснейшим выражением его вечной жизни.
Нахождение Иисуса во времени свидетельствует прежде всего о том, что он не предвосхищает воли Отца. Он не делает как раз того, что мы, люди, в своем грехе постоянно хотим сделать: перескочить через время и приходящие с ним Божии веления, с тем чтобы в некой мнимой вечности создать себе «обзор» и некие «гарантии». Ириней и Климент Александрийский считали, что эдемский грех как раз и состоял в подобном упреждении и что в действительности в награду «побеждающему» (Откр 2, 7) Сын вручит тот самый эдемский плод, который грешник преждевременно выкрал в ущерб себе. Поскольку Бог предназначил для человека все благое, человек же должен получить это
ва опыта рожденности от Отца, обусловленного исключительно их ипостасным единством. И как естественный духовный опыт сообщает некое предчувствие того измерения, куда мог бы совершиться исход из разрушенной временности (отчего, правда, состояние распада начинает казаться еще тягостнее и загадочнее), так и Сын имеет в Отце уникальную высшую свободу, пространство покоя, распространения, дистанции, — свободу, которая позволяет ему принять узкие рамки повиновения внутри земного мига, покинув высоту радости и покоя. И хотя падшему человеку дан досуг и возможность двигаться в пространстве превосходящих его красоты, блага и истины, все же насколько богаче время Сына в смысле обладания этим внутренним пространством — даже еще только при неукоснительном приближении к часу Отца!
33
тогда, когда дает Бог, то всякое неповиновение, всякий грех по своему существу есть «перескакивание» через время. Восстановление порядка Сыном Божиим должно поэтому заключаться в том, чтобы исключить «упреждение» в «познании». Чтобы ударить по руке, потянувшейся за вечностью. Чтобы вернуться, раскаявшись, от ложного и внезапного впадения в вечность к истинному и медленному вызреванию во времени. Отсюда и важность, придаваемая в Новом Завете терпению, которое еще в большей степени, чем смирение, становится базисным состоянием христианской экзистенции. Под этим подразумевается выносливость, выдержка, неизменность пребывания, стойкость до конца, нежелание «лезть из кожи», неприятие героического, или титанического, забегающего вперед плутовства и насильственного сведе́ния разрозненного воедино — но лишь возвышающаяся над всяческим героизмом кротость ведомого агнца.
Отношение Иисуса к его «часу» (Ин 2,4), который является также часом Отца, подтверждает сказанное. По самой своей сути это именно час, который «приходит» и как приходящий уже есть в наличии и определяет собою все имеющее место до и после него, но как все определяющий он еще только приходит, и его приход ничем не может быть ускорен — даже знанием (Мк 13, 32), ибо это тоже было бы упреждением, которое разрушает образ чистого, открытого и всецелого принятия всего приходящего от Отца. Когда час придет и Отец вручит его Сыну как наивысшее исполнение и прославление (Ин 12, 23), как высочайший дар своей любви, то у Сына не возникнет желания сказать Отцу, что он уже давно знает этот час, в котором нет для него ничего нового, и что этот час принес с собою
34
лишь то, что испокон веку было ему, Сыну, известно, давно просмаковано в мыслях, ощупано и захватано руками. Нет, Сын захочет получить его от Отца столь новым, столь непосредственно рожденным из первоисточника любви и вечности, чтобы на нем не было заметно ничьих следов или отпечатков пальцев, но только отпечаток воли Отца. Конечно, Сын «мог бы» заранее узнать и измерить этот свой час, но тогда он был бы уже не Сыном, а, возможно, неким сверхчеловеком, которого люди наделили своими собственными мечтаниями. Для Сына «его час» — это не только защита от преследователей (Ин 7, 30; 8, 20), делающая его неприкосновенным для них, «его час» и в самом себе имеет качество неприкосновенности, которое даже он — и в первую очередь именно он — не может нарушить. Понятие, которое он имеет об этом часе (а у него есть подобное знание), имеет свою меру в том, что пожелал открыть Отец. Поэтому (поскольку «час» Сына есть квинтэссенция его миссии) можно сделать более общее высказывание: Богочеловеческое знание Сына имеет меру в его миссии. Само это знание непосредственно не является мерой, оно — измеренное; мерой же и меряющей является его миссия. Совершенство Сына — в его послушании, а оно никогда не забегает вперед. Этой мере должно быть подчинено употребление всех его способностей. Если мы станем представлять себе знание Христа таким образом, будто он, пребывая в некоем вечном и всеобъемлющем созерцании, осуществляет во времени отдельные акты, подобно гениальному шахматисту, который с третьего хода уже насквозь видит всю игру и переставляет фигуры давно уже по сути дела сыгранной партии, то тем самым мы упраздним временность Иисуса, а за-
35
одно — и его послушание, терпение, всю заслугу его искупительного земного бытия, как если бы он больше не был прообразом христианской экзистенции и христианской веры. В таком случае ему уже не было бы смысла рассказывать притчи об уповании и ожидании, дающие описание жизни в ее последовательной преемственности.
Отказ от упреждения равнозначен слову «да», обращенному к Святому Духу, который постоянно и ежемгновенно передает волю Отца. Эта воля может сужаться до мельчайшей частности и расширяться до размеров всеохватной панорамы («И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе», Ин 12, 32), но воспринимается она только через веде́ние: Дух, который ведет Иисуса, есть Дух Отца и, будучи одним из Лиц Бога, имеет свободу веять, где хочет (3, 8) и именно благодаря этой свободе даст Сыну «не мерою» (3, 34). Сын же не станет какими бы то ни было упреждающими действиями мешать Отцову Духу, устанавливать направление его веяния, самостоятельно рисовать планы, которые развертывает для него Святой Дух. Гораздо вернее сравнение с актером, впервые играющим роль, которую он получает как бы духовным наитием: сцену за сценой, слово за словом. Пьеса целиком еще не существует, она придумывается, ставится и исполняется одновременно. Вочеловечение — это не очередное исполнение давно готовой трагедии, лежащей в архивах вечности. Это первичное событие, столь же уникальное и свежее, как и всегда актуально совершающееся вечное рождение Сына от Отца. То, что Божие слово в Писании и традиции может принимать видимость вневременности, объясняется не особенностью его экзистенции в мире, а отчасти тайной
36
его предельного кенозиса, отчасти — тайной греха, который, по слову Оригена, длит Христовы Страсти сквозь все времена.
б. Время Христа и время человека. Вера
Итак, в Сыне восприимчивость к Божией воле составляет основу времени. Благодаря своей восприимчивости он принимает от Отца время как форму и как содержание этой формы — в их единстве. Он принимает время как сплошь окачествленное время Отца. Время само по себе для него не существует. То, что могло бы представиться временем при принятии им «человеческого бытия самого по себе», уже самим актом этого принятия подчинено сыновней уникальности и охвачено ею. Сын не знает пустого времени, которое могло бы быть заполнено индифферентным содержанием. «Иметь время» означает для него: «иметь время для Бога», а это, в свою очередь, то же самое, что «получать время от Бога». Поэтому Сын, который во времени имеет время для Бога, есть исконное место, где Бог имеет время для мира. Другого времени, кроме как в Сыне, у Бога для мира нет, Бог все время имеет в нем. Он имеет в нем время для всех людей и для всех творений. Вместе с Сыном длится вечное сегодня. Эта открытость Бога через время — то же, что благодать, т.е. его доступность, им самим дарованная. Но тем самым утверждается, что в мире, где мы живем, время не есть чисто «природный» феномен, допускающий абстрагирование от этой открытости. На самом деле время может быть либо реальным временем, в котором мы встречаем Бога и в котором человек принимает его волю, или временем нереальным, пропавшим и
37
распавшимся, самопротиворечивым в своей конечности, несдержанным обещанием, пространством, наполненным пустотой, движением в никуда. Это время греха и грешников, время, в котором не найти Бога, поскольку человек сам избегает встречи с ним. Время, которое превратилось для него в наказание. Откуда он пытается убежать, возвратившись в безвременную философскую или мистическую «вечность», которая, однако, не будучи временем его экзистенции, вновь отбрасывает его назад, в переживание пустого и бесконечного времени, где человек сам себя проектирует и к самому же себе возвращается. Это время, в котором бы народы «не имели надежды и были безбожники в мире» (Еф 2, 12), время как вечное возвращение безразличной неразличимости, концентрированное выражение непонятного земного бытия.
Таким образом, в теологии следовало бы различать разные модусы временности. Райское время, в котором Бог был полностью открыт человеку и беседовал с ним в прохладе дня (Быт 3, 8). Время греха, т.е. потерянное время, ведущее к гибели, когда Бог раскаялся, что сотворил мир (Быт 6, 6), и попустил всему созданному из вод хаоса вновь в них погибнуть (2 Петр 3,6). Время Спасителя, в котором Бог снова нашел время для мира. Время Ветхого и Нового Заветов как подготовка и результат времени Христа. Время людей, которые во Христе и через Христа вновь получают часть в реальном времени.
Время Христа — это не райское, не греховное и не спасенное время. Оно находится по ту сторону всех этих модусов, подобно тому как и человеческая сущность Христа несравнима ни с человеческой сущностью Адама, ни с человеческой сущностью спасенных.
38
Он, воплощающий саму первоидею человека, стоящего перед лицом Бога, поднимается над всеми историческими вариациями человеческого состояния, и он подчинил как модальное, так и категориальное в себе своей собственной уникальности. Иначе законополагающими были бы эти начала, а не он сам. Так и его время: именно потому, что оно должно стать всеобщим и законополагающим, оно и является особым. Оно есть исполнение времени Адама, поскольку, возвышаясь над адамовой благодатью, является доступом к Богу, т.е. открытостью для мира вечной личностной взаимопринадлежности Отца и Сына в Духе. И все же оно родственно времени греха, поскольку устремлено к его «часу», в который Отец должен открыться Сыну, пока еще пребывающему в крестной лишенности и оставленное™. Таким образом, в своей растущей исполненности это время принимает в себя растущую пустоту и покинутость греховной временно́й кажимости. При всей своей подлинности оно безусловно скрывает в себе модальность неподлинного времени, и не только для того, чтобы познать его и преодолеть в качестве познанного, но и глубже: чтобы исполнить его смыслом подлинности. Наивысшее доказательство любви Отца к миру состоит в том, что после распятия Сына на кресте он словно бы уже не имеет времени для Сына (Ин 3, 16). Вся полнота человеческого времени есть, таким образом, феномен, внутренне аналогичный времени Христа, в целом посредством него уясняющийся и достигающий в нем своей кульминации.
Время человека внутри этого времени, т.е. христианская экзистенция, определяется в своем содержании «сими тремя» (1 Кор 13, 13): верой, надеждой, любо-
39
вью. Чтобы правильно понять человеческое время, нужно во всяком случае рассмотреть его в рамках христианской теологии времени. Или, в негативной форме: нельзя оценивать его односторонне, исходя из платоновско-аристотелевского, и шире, философского или абстрактно-мистического противопоставления времени и вечности. Иначе пришлось бы с самого начала разделить триаду, отнеся веру и надежду к временности, а любовь — к вечности. В этом случае временной характер веры и надежды рассматривался бы как нечто промежуточное, преодолимое, а при более высоком «созерцании» и более полном «обладании» — объяснимое, но трактовка Павловых «трех» оказалась бы тогда неправомерной. Глава 1 Кор 13 отвергает всякое разделение веры, надежды и любви на поту- и посюстороннее, скорее, Павел связывает их на манер перихорезы, которую он замыкает причастным времени терпением и упованием: «Любовь все переносит, всему верит, всего надеется, все терпит» (1 Кор 13, 7). Эта любовь, которая заключает в себе веру, надежду и непреклонное упование, есть то, что останется, когда исчезнут все харизмы: пророчества, языки и гносис. Гносис несовершенен и потому прейдет. Но то, что «пребывает» (слово νυνί в стихе 13 следовало бы тогда понимать логически), — и это «пребывание» (ср. «не перестает» из стиха 8) составляет крайнюю противоположность утверждению, что харизмы «прекратятся», «умолкнут», «упразднятся» — суть «сии три: вера, надежда, любовь, но любовь», которая их объемлет, «из них больше» (1 Кор 13, 13). Познание до дна измерено любовью и внутри любви может доходить до самоотрицания (1 Кор 8,2), внутри любви оно существенным образом превосходит само себя (Еф 3, 19),
40
тогда как вера и надежда в подобном диалектическом отношении к любви не стоят; однако, если они совершенны, выступают как ее внутренние модусы. Вне любви они также были бы ничем (1 Кор 13, 2—3). Они суть то, чем и должны быть в христианском измерении: выражение любви, которая «не ищет своего» (13, 5), но только — грядущей воли Божией. При таком совершенстве надежда — это не более чем всеутверждающая, всему подвластная готовность любви, раскрытой в бесконечность, знающей, что Бог для нее навсегда — самое лучшее; вера — не более чем внутренний настрой творения: уступать и отдавать себя, а заодно и свою истину и очевидность, предпочитая им, в своей любви, всегда большую и более истинную истину Бога. Ибо как надежда не прекращается, удовольствовавшись уже полученными дарами, но как раз благодаря им остается открытой для Бога, всегда превосходящего самое лучшее, так и вера не удовлетворяется какой бы то ни было истиной, дарованной Богом, но полагает свою сущность в том, чтобы сквозь всякую истину как прозрачную видеть бесконечного даятеля и всегда сохранять себя подвластной всякому возможному откровению Бога. Вера, которая выдвигала бы какие бы то ни было условия касательно будущего, которая соглашалась бы принять только те слова Бога, которые соизмеримы с ее собственным разумом, не была бы христианской. Если же в надежде и вере наличествует бесконечный «угол раскрытия», то обе они по своей сути подлинные модусы любви, не разрушимые смертью и не превосходимые даже высочайшим и непосредственным созерцанием. Правда, в вечной жизни они должны быть преображены и исполнены, и после этого преображения земная вера как не-ви-
41
дящая вера в авторитет (Dz 1789) должна разрешиться в видении, а не-обладающая надежда — в обладании (Dz530). Но и в вечной жизни останется высшим и нормополагающим началом та любовь, что захочет и в вечности принимать не иначе, чем вечный Сын принимает самого себя. Или глубже: она есть благодатное участие в целостности триединой жизни, которая находит вечное блаженство во внутрибожественных отношениях. Подобно тому как Мария своим (сыновним) «да», исполненным чистой готовности, возвышается как Дева настолько, что участвует в создании Сына своим лоном — благодатно-тварным участием в акте вечного Отца, так следование Сыну (как, опираясь на традицию, подчеркивал Экхарт) ведет к тринитарному рождению Бога в сердце человека. Сыновняя любовь не является мертвым образом отцовской любви, но, будучи исполнена жизнью, ведет в жизненное средоточье этой последней. И там, где происходит взаимное проникновение сыновней и отцовской любви, — там выступает Святой Дух, чтобы осуществить всепроницающее господство также и над духом творения. Причаствуя подобным образом вечной жизни, время как бытийная форма творения не подвергается уничтожению, но все более преисполняется вечным измерением божественной жизни. Освобожденное от своих модальностей, обусловленных «первым Адамом», грехопадением и крестным искуплением, время творения достигает, посредством временности Христа, чаемого завершения в Боге. С абсолютной ясностью это сформулировал Ириней: «Ибо Ему надлежит превосходить всех... и это не только в нынешнем веке, но и в будущем, дабы таким образом Бог всегда учил, а человек всегда научался от Бога. Так и Апостол сказал,
42
что, тогда как все прочее разрушится, останутся следующие три: Вера, Надежда и Любовь. Ибо вера в отношении к нашему Учителю пребывает неизменною, утверждая нас в том, что един есть истинный Бог и что мы должны истинно любить Его всегда, что он один есть Отец, от Которого мы должны надеяться получить нечто большее и научиться, что Он благ и имеет богатство безмерное, царство бесконечное и научение неисчерпаемое» (С. Haer. II, 28, 3).
Лишь подлинная теология времени, выросшая из созерцания Христовой экзистенции, может придать верующей и надеющейся любви, этой основе христианской экзистенции, реальный фундамент вечности, соразмерный откровению. Полагая время целиком преходящим, мы тем самым неизбежно и полностью растворили бы веру и надежду в посюсторонней мимолетности. Но тогда подрывается и основной феномен всего христианского измерения, т.е. христологическая, полная открытость для «всякого слова, исходящего из уст Божиих» (Мф 4, 4), а поскольку Сын сам есть Слово — терпит ущерб открытость-для-себя, реализуемая изнутри открытости для Отца. Поэтому Visio заключено не столько в умножении Павлова гнозиса, сколько в умножении pistis·. вера как подражание внутреннему настрою Христа — больше, чем знание, а созерцание есть совершенная вера. Это находит выражение еще и в том, что Павел перекладывает центр тяжести гнозиса на познающего Бога, из-за чего наш собственный критерий познания перестает быть решающим, поскольку сам этот критерий переходит к Богу (1 Кор 9, 3; 13,12; 2 Кор 5, 11; Флп 3, 12; ср. Ин 6, 28—29, Еф 2,10), свет славы которого созерцает самого себя в нас — и с нами вместе.
43
Самое важное и самое вдохновляющее практическое следствие из всего этого — в том, что лишь подлинная теология времени может раскрыть христианскую веру как реальное следование Христу. Если мы станем обосновывать бытийный акт человека Христа в этом мире главным образом как вневременное созерцание (по крайней мере, в содержательном плане), то последователи Христа ничего в этом акте повторить не смогут и поэтому сам этот акт как прообраз и образец ставится под сомнение. Иначе разрешается вопрос в Послании к Евреям, где вся вера — направленная на Христа и исходящая от него — в контексте истории спасения обосновывается экзистенцией и внутренним настроем Богочеловека, что и составляет чисто христианское своеобразие феномена последования. В одиннадцатой главе обрисована общая экзистенция героев Ветхого Завета — от Авеля, Еноха, Ноя и Авраама до царей и пророков, мучеников эпохи изгнания — как укорененная в акте претерпевающей, самоотреченной, терпеливой веры; в двенадцатой — вскрываются онтические основания подобной экзистенции: «и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще (ἀγών), взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшего Ему блаженства, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр 12, 1—2). Путь терпения, посрамления и страдания — это отказ выбирать то, что человек желает самому себе, т.е. блаженство. Именно в этом, согласно автору Послания, заключена вера. Так, он пишет о Моисее: «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой; и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное
44
наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища» (Евр 11, 24—26). Эта вера Моисея как по форме, так и по содержанию сообразна вере Христа, и когда о Христе говорится, что он есть «начальник (ἀρχηγός) и совершитель (τελειώτης)веры», это не может пониматься в смысле простой причинности по действию, но лишь в смысле действенной причины-образца. Подражать вере-послушанию и самоотреченному терпению Иисуса, с помощью которых он привносит вечное внутрь времени, это и значит — верить, надеяться, любить. Лишь в таком неискажающем распространении духовной жизни раскрывается подлинная интимность подражания Христу, к чему призывают все речи Господа и заповеди блаженства.
Чудо прообразующего богочеловеческого послушания соединяет в себе актуализацию триединой жизни с последним обоснованием и исполнением собственно тварного внутреннего состояния в отношении к Богу. Поскольку, однако, в откровении Христа нет ничего такого, что не имело бы также и человеческого измерения (тем самым надприродная религия являет собой завершение религии природной), то будет допустимо прояснить аналогию между божественным, богочеловеческим и чисто человеческим внутренним состоянием с помощью понятия, непосредственно доступного любому человеку: понятия верности. Верность лежит в основании всякого договора между людьми, всякого союза, заключаемого между двумя народами или между народом и его божеством. Верность была содержанием завета между Яхве и Израилем, и как сам Яхве поклялся в вечной верности, также обязал он к подобной верности и неверный Израиль, что может
45
означать лишь одно: выполнение условий договора с Богом. Вера Израиля и есть эта верность, возвышающаяся над собственными сомнениями, суждениями и понятиями. Таким образом, Ветхий Завет знает и веру-доверие, fides,Бога к Израилю, и ответную fides Израиля в отношении к Богу. И лишь изнутри тайны любви получает объяснение — в моменты измены Израиля — неслыханная, уводящая в божественную бездну диалектика объявленного вслух отвержения (вследствие нарушенного единства взаимной верности) — и обещанной Божией верности, покрывающей всякую угрозу. Лишь потому, что человек и Бог сходятся в одном и том же установленном Богом внутреннем состоянии, становится возможным, что во Христе Божия верность человеку и человеческая верность Богу бытийно и окончательно сливаются в нераздельном единстве. И вот это неслыханное, уникальное смогло показаться германским варварам чем-то почти привычным, едва ли не самоочевидным: в поэме «Гелианд» вера апостолов представлена как вассальная верность правителю.
46
2. ВКЛЮЧЕНИЕ ИСТОРИИ В ЖИЗНЬ ХРИСТА
а. Сын и история спасения
Время Христа есть выражение его отказа от того, чтобы самостоятельно управлять своим существованием на земле. Он хочет как в целом, так и в каждой частности превратить свое существование в памятник Отцу в этом мире. Его жизнь должна говорить об Отце, а не о нем самом. Поэтому он не придает своей жизни никакого законченного смыслового содержания, но предоставляет Отцу формировать ее от мига к мигу и наполнять своим смыслом. Ситуации, которые образуют его жизнь, он вызывает не сам, но дает Отцу ставить себя в них. Этот отказ от самостоятельного влияния на свое земное бытие как будто вводит нас в узкие рамки постоянно вершимого историзма, словно бы единственная возможность, предложенная Отцом, исчерпывала все поле исторического действия; всякая дистанция, всякий свободный выбор, похоже, исключаются. Кажется, что исполнитель Божьей воли так глубоко погрузился в действие, что утратил дистанцию, необходимую для созерцания.
Все это, разумеется, не так. Постоянная занятость делом осуществления не только не заслоняет, но напротив, открывает беспредельное поле истины. О Сыне можно сказать, что в «пище», которую дает ему Отец, в «заповедях», преподанных Отцом (Ин 12, 49; 15, 10), он всякий раз принимает и созерцает всего Отца. Для
него не существует поля напряжения между даятелем и даром. Исполнение отцовской воли для него — совершенно одно с реальным познанием самого Отца, с экзистенциальным постижением его истины. Христианским законом становится: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю» (Ин 7, 17). «...если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину» (Ин 8, 31)6. Также и божественному Логосу не свойственно созерцание, которое предваряло бы бы действие, скорее, Логос является самим собой в пассивном совместном вершении вечно длящегося рождающего акта Отца. Соглашаясь быть тем, что он есть, он промеряет в себе Отца, глубину его слова, и в этой последней — глубину его сущности. Свобода, которую он при этом получает (Ин 8, 32), есть власть над всеми глубинами собственного божественного бытия — но лишь как расширение в любви до всепревосходящей славы Отца. Поэтому для сына не существует разделения, не существует даже смены фаз между действием и созерцанием (даже когда его внешняя жизнь, с целью нашего научения в том и другом, выдвигает на первый план то один, то другой аспект), поскольку он, будучи Логосом Отца, и есть корневое единство обоих этих аспектов. При такой крайней приближенности к
6 Поскольку же вера есть исполненная верность, которая заранее принимает любое Божье волеизъявление, то в определенном смысле божественная истина оказывается постигнутой и раскрытой во всей своей полноте. Христианское познание покоится на основе «всего знания раз и навсегда (ἄπαξ)» (Иуд 5; 1 Ин 2, 20.27), что в действительности не делает излишним ни церковное поучение, ни постоянные личные поиски (Флп 3, 12-13).
48
действию и его драматизме он сам в этом единстве не исчезает: абсолютная интенсивность его послушания сама по себе создает абсолютную протяженность, владение пространством созерцания.
Теперь становится также понятно, что его послушание меньше всего похоже на простое стояние под всегда вертикально ниспадающими лучами Божией воли, что скорее это послушание может заключить в себе также земное, горизонтальное измерение, историческую растяженность. Повинуясь Отцу, Сын исполняет не только его волю, но также его обетование, его пророчество. И именно потому, что он берет на себя приведение этих пророчеств к полноте и исполнению, он опять-таки выполняет волю Отца. Только как следует обдумав это, мы сможем обнаружить всю таинственную глубину тринитарной любви в Сыне, заключенную между послушанием и свободой. Сын знает законы и пророков; он знает, что они содержат свидетельства о нем (Ин 5, 39), и сам толкует их применительно к себе (Мк 12, 35—37 прл; Лк 4, 16 сл; 24—27). У пророков встречает он слово Божие, которое уже есть в мире и уже, т.е. до его вочеловечения, приняло человеческий образ. Если бы это слово было всего лишь неким неясным контуром в сумеречном свете, предварительной формой его образа, теперь ставшего ясным и отчетливым, то оно не стоило бы его внимания. Тогда бы он должен был оставить в прошлом и закон, и пророков и создать абсолютно актуальную современность, которая оправдала бы прошлое и создала проект будущего. Однако Ветхий Завет не является для него прошлым, причем в двух отношениях. Во-первых, он содержит в себе некую точную схему предстоящего ему в земной
49
жизни, с известными пунктами, которых ему придется держаться и в которых он не будет «свободен» выбирать то или иное. Причем речь будет идти не столько о материально установленных частностях (на которые Евангелия по большей части намекают притчеобразно, чтобы сконцентрировать в нескольких точках все расходящееся, разветвленное), сколько о духовных ситуациях; именно они образуют непрерывный маршрут в целом: в целостности его жизни должно будет найти место всецелое исполнение целостного закона и всех пророков. Каждый шаг, который он делает, должен быть осуществлен как перевод обетования в исполнение. Недостаточно сказать, что он есть уже осуществленный Новый Завет, — он должен каждым своим деянием воплощать его в действительность. С одной стороны, дело обстоит почти так, что он всей своей экзистенцией должен будет прорисовать заранее пунктирно намеченную фигуру. Если представить, что юноша, пытающийся направить свою жизнь, смог бы прочесть всю свою будущую биографию, — то примерно так Сын Человеческий воспринимает закон и пророков. С другой стороны, он не ограничен в своей свободе и даже — вопреки сказанному задним числом: «Не так ли надлежало пострадать Христу...» (Лк 24, 26) — ничем заранее не связан. Ведь он, будучи исполнением, и является основой обетования, он — прообраз, из которого вышли и по которому созданы все предуказующие образы. Его собственная биография, воспринятая им из священной истории, рассказана ему aposteriori,а не apriori. Даже если бы можно было показать человеку фотографии, которые будут сделаны с него двадцатью годами позже, они никак не могли бы его детерминировать, потому что не
50
он с них сделан, а они с него. Особое в миссии Иисуса состоит в том, что отцовская воля, составляющая содержание его земного бытия, предъявлена ему не как независимая от того исторического облика, который он принял. И еще в том, что этот узел, это сопряжение лежит в самой сущности «Ветхого» Завета: ведь уже здесь Бог, который из субстанции своей собственной божественно-вечной верности учредил вечный (Пс 89, Сир 44—45, Рим И, 29) завет между людьми и собою, введен — постоянной неверностью народа — в рамки судьбы, вытекающей из его, Бога, собственной свободы, — судьбы, которая неким еще непрозрачным и загадочным образом указывает на страдания самого Бога во всемирной сфере его завета. Иначе говоря: вечная мировая воля Бога, следствием которой является вочеловечение и которую вочеловечившийся Сын теперь встречает и принимает на себя, сама уже имеет христологический облик. Поэтому положение двусторонне: даже там, где Сын применяется к исторической форме отцовской воли, он оказывает послушание не людям, но Богу — однако Богу, столь тесно связавшему себя со своим творением, что теперь ему приходится повиноваться необходимости страданий как следствию его собственного свободного решения. Поэтому справедливо следующее: свободно и непосредственно повинуясь своему небесному Отцу, он, исполняя, вбирает в себя все историческое и наделяет его последним смыслом.
«Иисус Христос сделался служителем для обрезанных — ради истины (ἀλήθειά) Божией, чтобы исполнить обещанное отцам» (Рим 15, 8): потому что Отец заключил с народом союз, который он задумал исполнить с помощью своего вочеловечившегося Сына, так
51
что Божия истина и истинность в итоге оказались в правящих руках одного человека, от верности которого зависит, будет ли Бог верен людям. Историческое послушание Сына придает тринитарной любви высочайший рельеф, места расположения разных личностей в их глубоко внутреннем единстве становятся неслыханно различными. В перспективе Отца отцовская верность видится как нечто начатое в Ветхом Завете и завершенное в Новом; получившееся же целое есть единая истина, единое Слово, вечный Сын, приходящий в мир. В перспективе Сына принятие на себя традиции есть поэтому не какое-то побочное дело, но ответственность за истину и дело Отца, что не является для него чем-то чуждым, ибо он изначально тождествен тому и другому.
Он повинуется исключительно Отцу, а отнюдь не Моисею или пророкам, коих господином он является. Он был «прежде» (Ин 8, 58), и Давид называет его Господом (Мф 22,45). Но он повинуется Отцу не только по вертикальной линии, но и по горизонтали — тем, что из любви к Отцу и к его славе исполняет закон до последней «йоты» (Мф 5,18) чтобы доказать благодатность последнего и, в своем повиновении Богу, вступить в общность с людьми в жизненной форме закона. С точки зрения Сына, исполнение закона есть послушание Отцу: закон и пророки для него интегрированы в совокупность Отцовских предписаний. Новым, собственно христианским в этом исполнении закона является глубина, точность и мотивировка: так еще никто не исполнял закон и не почитал Отца. Так праведен не был еще никто. Так прочесть в буквах последнее, самое сокровенное намерение Духа не смог еще никто. Творческое начало, которое составляет скачок
52
из ветхого в новое, есть любовь, с которой повинуются и которая столь совершенна, что она взрывает ветхий принцип послушания-службы и превращает закон в прислужника любви. Если для Сына это любовное послушание есть служение Отцу, то для Отца весь Ветхий Завет есть служение Сыну. Бог Отец учредил Завет, ниспослал закон и пророков, чтобы проложить земной путь для Сына, т.е. создать для него некую корреспонденцию, меру соответствия, предпосылку понимания, возникающую благодаря любви и страданию. Где Сын созерцает в законе Отца, там Отец созерцает в законе Сына. Для Сына весь смысл ветхого заключен в грядущем новом; ветхое есть набросок грядущего осуществления, принуждение — основа грядущей свободы; форма — сосуд грядущего содержания. Отец не подчиняет Сына закону, но закон — Сыну как помощь, путь, от которого он как бы освобожден и избавлен, но который дан ему как опора, в качестве предпосылки. Поэтому Сын и не воспринимает подчинение закону как принуждение, но — пребывая в законе — испытывает наисвободнейшую благодарность к Отцу, чью любовь вновь узнает в законе. Исполняя закон, он тем самым не возвращается на более примитивную ступень, от которой он будто бы так и не смог оторваться (и лишь «Царство Святого Духа» могло бы в этом случае принести полную свободу), — он находится вполне на своем уровне и на уровне своей свободы, своей любви к Отцу, явить которую он единственно и пришел в мир и для которой нет более прекрасного образа, чем совершенное почитание Отца, достигаемое через вхождение в отцовскую истинность.
Благоговение, с которым Сын относится к Отцовской традиции в мире, в сконцентрированном и об-
53
разном виде отчетливо сказывается в его отношении к матери Марии. Она зачала его и родила; она по плоти передала ему все то, что должно было войти в его человеческое бытие от поколений его предков, среди которых есть грешники и святые. Но она также открыла ему — поскольку он был человеком и мог научаться — религиозную и духовную традицию его народа. Она показала ему, как человек молится Богу и поднимает взгляд горé, он впервые услышал отцовское имя, облеченное в человеческий звук, из ее уст, стал обращаться к нему, подражая ей. Для мальчика Иисуса она была авторитетом, самым точным и достоверным воспроизведением авторитета небесного. Повинуясь Отцу, он тем самым повинуется и ей. И все же настанет момент, когда он, двенадцатилетним ребенком, нарушит временную непрерывность этого послушания, метнув молнию, по видимости ее пробивающую, — с тем, чтобы восстановить еще более древнюю традицию, традицию рая, своей чистой божественности, которой уже незнакомо ветхозаветное состояние мира (в отношении этого ветхозаветного состояния и в этот момент, и позднее, во время вышедшей на простор жизни Иисуса, Марии придется исполнять представительскую роль), но именно для осуществления которой, как высочайшего дара, Мессия пришел на землю. Ведь традиция — это и передача того, что исходит от Бога, постоянно повторяясь: всякий раз новое упразднение внутримировой исторической непрерывности посредством неожиданного и непредсказуемого вмешательства Бога. И эти неожиданные сбои и упразднения, которые существенным образом принадлежат к содержанию традиции Израиля, не могут не присутствовать и в форме, в которой Иисус их принимает и включает в
54
свою жизнь. Такое всегда новое упразднение традиции принадлежит в истории откровения самой сущности традиции. Когда мальчик Иисус, в послушании своей матери, дорастает в своем человеческом качестве до Божией традиции и включается в нее, то эта подчиненность традиции становится сверхвыполнением всякого повиновения закону, — до такой степени, что благодаря сыновнему повиновению ситуация обращается: там, где это повиновение достигает своей высшей точки, т.е. на кресте, мать оказывается вовлеченной в полное, всеохватное повиновение Сыну. В отношениях матери и Сына происходит самая интимная и конкретная встреча божественной и человеческой истории, и задача исследовать эти отношения принадлежит к самым глубинным в теологии истории.
б. Творение и спасение
Так история (первоначально — в качестве истории спасения и традиции спасения) входит в фазу исполнения и получает оттуда свой смысл и оправдание. Однако теперь возможным и необходимым становится расширение. История спасения, которую Христос, исполняя и интегрируя ее в свою собственную человеческую жизнь, собирает и доводит до конечного смысла, состоит в первую очередь не из отдельных словесных пророчеств и таких же отдельных законнических предписаний. Она состоит из абсолютно живых и представляющихся нам хаотическими событий истории — от Авраама до Иоанна Крестителя. Эта история с ее драматизмом, с ее судами и отвержениями, чередой актов искупления и выбора, ожесточения и удавшейся молитвы, с игрой переходов от Божией свободы
55
к человеческой и обратно, — эта история как таковая является обетованием. И человек, с его готовностью к решениям, изобличающей в нем свободное существо, целиком помещается в этой preparatio evangelica и в ней себя проявляет: игра этого времени — времени обетования, в котором Бог и человек борются друг с другом с величайшей серьезностью (и которое не во всех отношениях можно понимать как хронологическое время, ибо последнее преодолевается с приходом Сына, 1 Кор 10,1 сл.), заключена, как в скобки, внутрь времени исполнения, которое придает всей этой игре третье и даже четвертое измерение. Свобода человека и его решения не ущемляется свободой Бога, который, в заботе о своем собственном обесславленном имени (Иез 36, 22 слл.), всему совершенному человеком придает новую смысловую разметку, причем в иной, божественной плоскости. Сцена со спящим Королем и неверной Королевой не становится менее драматичной оттого, что за ней наблюдает Гамлет и весь двор, соотнося ее с событиями их собственного мира. Само по себе разыгрывание пьесы в пьесе придумано и приведено в исполнение Гамлетом. Причина появления и цель этой маленькой пьесы сопряжены между собой. Но именно поэтому она не терпит ущерба в своей внутренней закономерности. Так же и подлинная историчность истории спасения не ставится под вопрос, оттого что последняя была — в явном расчете на Сына — инициирована Богом Отцом и оттого что все роли и сцены были Сыном воспроизведены, сведены воедино и подняты на высочайший уровень их собственной правды и самобытности. Вопрос «ради чего?», заложенный в истории, вращается вокруг действия Сына, чья уникальность высвобождает историю
56
на волю ее собственной самобытности: само существование таких вещей, как рай, грехопадение, потоп, завет между Богом и Авраамом, закон и исторический профетизм, имеет своим смыслонаделяющим средоточием явление Сына, хотя Сын, явившись, послушно встраивается в игровую форму прошедшего и настоящего. История подчиняет себя Сыну, Сын — истории. Однако подчинение истории— Сыну совершается ради подчинения Сына — истории, последняя же, в свою очередь, является лишь выражением его подчиненности воле Отца.
В этой совокупной перспективе позиций Отца и Сына, творения и спасения, отчетливо выявляется действие и позиция Духа, который сам создает и сам занимает точку схода и отсчета этой множественной перспективы. Именно он делает историю — историей спасения тем, что профетически организует ее вокруг Сына, и он же ставит Сына в те ситуации, которые обеспечивают исполнение обетования. Поскольку он в своем личностном единстве есть Дух Отца и Дух Сына, он может совмещать в себе всю глубину отцовского повеления — с глубиной сыновнего послушания, глубину отцовского исторического обетования, данного ради Сына, — с глубиной сыновнего исполнения истории ради Отца. Дух как действие есть заключение Завета и вместе — экспозиция божественного «имени» и божественной «славы» (Иез 36) навстречу мировой угрозе, приведшей — через оскорбление и «угашение» Духа (Еф 4, 30; 1 Фес 5, 19; Рим 8, 23.26) — к страстям Богочеловека. Подлинная история обретает, таким образом, тринитарную трехмерность, которая обеспечивает для нее, внутри тварного мира, пространственную полноту и возможность развертывания.
57
Но уже само указание на рай и грехопадение есть шаг, выводящий за пределы истории спасения в узком смысле (от призвания Авраама до Христа) — во всемирную историю как таковую: вспять, минуя Ноя, к Адаму и далее, из пространства истории, развернувшейся после падения, совершенного первыми людьми, — к ее эдемскому истоку, а также вовне, от истории обетования, как истории еврейского народа, — в ширь общечеловеческой и всемирной истории. Если история спасения в узком смысле содержит прежде всего ясные и очевидные образы обетования, с которыми осознанно и очевидно соотносит себя исполнитель Христос (ведь он истинный сын Авраама и Давида, Лев Иуда, подлинный Исаак, Соломон и т.д.), то и в чисто историческом и в профетическом смысле она, эта история, нерасторжимо связана с судьбами язычников. В плане спасения Израиль состоит в одной эсхатологической общности с Египтом, Ассирией и даже с Содомом (Иез 16, 55 сл.); язычник Иов являет собой, быть может, самое глубокое и непосредственное пророчество креста. «Естественный закон», запечатленный в сердцах язычников, — равносильная замена писаного закона иудеев и потому может непосредственно лечь в основание суда (Рим 2, 14 сл.). Можно поэтому сказать, что сей «естественный закон», а в нем и вся история как таковая, стоит в том же отношении к жизни Христа, как обетование — к исполнению. В этом смысле «естественный закон» отличается от истории спасения в узком смысле лишь тем, что он опосредован самой историей спасения. Поскольку же дело исполнения принадлежит одному лишь Христу (тогда как обетование воплощено всем «плотским» Израилем), то Израиль как таковой не мо-
58
жет служить исполнением язычества, покуда Христос сохраняет разделяющую «стену», свидетельствующую о предварительном характере самого иудейского обетования. И лишь сила креста способна разрушить эту стену, совершив перевод пророческого слова — в плоть и кровь, в жертвенную плоть и проливаемую кровь, и тем окончательно закрепить воплощение Слова: через жертву экзистенции все сказанное начинает выступать в своей полной экзистенциальной истине. На кресте Новый Завет приходит к своей полноте, «писаный» закон окончательно записывается в сердцах как «новый закон», «новый завет», который увлекает за собой и исполняет также естественный закон, запечатленный в сердцах язычников (Иер 31, 31; Иез 36, 26-27; Еф2,11-18).
Так раскрывается наше изначальное положение о том, что жизнь Сына в отношении ко всей истории представляет собой смысло- и нормополагающий идейный мир. Более того, в перспективе Отца она должна рассматриваться — разумеется, не как обоснование, но уж во всяком случае как условие возможности грехопадения, но вместе с тем — и райской экзистенции, вообще условием творения, которое ведь было предпринято ради человека. В самом Христе, в Вочеловечившемся, по Павлу, должен содержаться также набросок всего мира — во «Едином Господе Иисусе Христе, Которым все, и мы Им» (1 Кор 8, 6), «ибо Им создано все, что на небесах и что на земле... все Им и для Него создано» (Кол 1, 16 сл.). Именно он, Вочеловечившийся, а не, например, божественный Логос, называет себя: «Первый и Последний, Который был мертв и се, жив» (Откр 2, 8), а также: «Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия»
59
(Откр 3, 14). Это в нем мы избраны «прежде создания мира» (Еф 1, 5), и он, в верности и послушании, предстательствует за всех и вся, в том числе и за исключительные экземпляры творения и человеческой истории. Лишь имея его в виду, мир и мировая история могли отважиться — быть; лишь ввиду его самого и его Церкви могло произойти сотворение мужчины и женщины (Еф 5, 31—32); лишь благодаря существованию его самого и его матери находит себе оправдание изгнание грешников из Божьего рая (Быт 3, 15). Подобно тому как крест в подлинном смысле был порожден грехом и Христос никогда не стал бы Искупителем, если бы вина человечества не побудила его выкупить таким образом свое поручительство уже при сотворении мира, — точно так же в другом, более глубоком смысле крест является возможностью не только греха, но и земного бытия, и предопределения как такового: «Ordine intentionis prius fuit volitus Christus, non solum quoad substantiam incamationis, sed etiam quoad circumstantiam proximae possibilitatis et ut actualis redemptor, quam res ordinis naturalis et pertinentes ad ordinem gratiae et permissio peccati. Per passionem meruit nobis, ut essemus, siquidem nostra substantia... fuit praedestinationis effectus et consequenter fuit praemium meriti passionis et mortis Christi» «В порядке предварительного замысла Христос был поволен раньше (не только в том, что касается всеобщего в вочеловечении, но также и особого способа непосредственного его осуществления и явления Христа как спасителя именно этого мира), чем вещи природного порядка, а также принадлежащие к порядку благодати, и чем само допущение грехопадения. Посредством своих страстей он заслужил для нас земное бытие, ведь само наше существование... есть
60
результат предопределения, и поэтому [поскольку мы предопределены во Христе, в частности — как его братья] оно, является наградой за Христову заслугу страдания и смерти» (P. de Godoy' Disp, theol. in 3. p. divi Thomae q I, tr I, d 8, § 6, et q 24, d 57 § 4).
Исполнение смысла и закона человеком Иисусом Христом является поэтому основанием для всякого другого исполнения, будь оно окончательным, половинчатым или несостоявшимся. Поскольку же Христово исполнение происходит в модусе кенозиса, «в подобии плоти греховной и ради греха» (Рим 8, 3), то Сын Божий несет в себе не только опыт человеческой ситуации вообще, но также опыт всех ситуаций, заключенных между совершенным исполнением и совершенным неисполнением. Вочеловечиваясь, он познает не только расстояние вообще между Богом и творением и тем самым ситуацию человека как такового, подчиняющегося заповеди и закону Божиему, как их знал Адам, но также и более далекое расстояние между человеком, ослабленным первородным грехом, — и повелением Бога, т.е. нечто близкое к ситуации послушающегося Авраама. Он углубляется в сумрачный ландшафт искушения, чтобы в самом себе заново воссоздать конкретную ситуацию каждого человека, подверженного притягательной силе греха. Искушение Христа есть абсолютно подлинное искушение, только он (в отличие от нас) не может ему поддаться. Оно не является неким «как бы», которое из-за «страховки» надприродного характера исключало бы реальную уязвимость. И Христос не похож на подстрахованного альпиниста, который беззаботно скользит над бездной, полностью полагаясь на крепость своего троса. Его уязвимость возникает в той
61
же точке, что и его временность. Риск встречи со злом есть лишь заостренная форма риска, состоящего в предании, через Святого Духа, всего своего существования в руки Отца. В ситуации искушения Спаситель прибегает к той самой помощи, которая — после него и благодаря ему — оказывается в принципе доступной всем верящим, надеющимся и любящим людям. Он экспериментально испытывает себя не только искушением, но и растущей диспропорцией между собственными силами, какими их знает в себе человек, и требованием Бога: этот основной для христианина опыт сверхвозможного, как его пережил Христос на Елеонской горе. В сверхвозможном растяжении человеческой меры (которая у грешника до предела сжата и которую Господь ценой крайних страданий должен снова разнести изнутри мощным взрывом), в вывихе телесных членов на кресте (чему соответствует еще более глубинное расширение всех душевных возможностей) Христос обретает измерение, способное вместить расстояние предельной величины: между Богом пылающей, гневной справедливости и им «покинутым» и отвергнутым человеком. Он вмещает в себя это расстояние благодаря замещению, т.е. объективному и субъективному неразличению между чужой виной и собственной невинностью. Правда, все эти частные протяженности, вариации единой меры (расстояние между человеком и Богом, между Богом и праведником, отягченным наследственным грехом, расстояние между Богом и грешником как таковым) могли быть им измерены лишь потому, что он был не человеком, но Богочеловеком. И все же он измеряет их не просто сверху — мерой небесного взгляда, он измеряет их снизу и изнутри, используя в качестве масштаба свое че-
62
ловеческое бытие, свое тело и душу, и до тех пор — по воле Отца — применяет к вещам, растягивает и разминает все это, пока в этом мире не будет измерена всякая мера. Именно таким измеряющим, сопрягающим и обновляющим все вещи, заключенные между небом и землей, изображает его на кресте старинная гомилия, написанная в традиции Ипполита: «Сие древо во всю небесную ширь устремляется от земли к небу; как бессмертное растение утвердился он посреди неба и земли, он опора всех вещей, крепость и основание вселенной, космическое сплочение, охват мирового и человеческого многоразличия, прибитый незримыми гвоздями Духа, чтобы, распростершись по божественному, он не мог уже от него отделиться. Теменем своим достигая небес, ногами попирая землю, бесконечным размахом рук обнимая со всех сторон многообразно посредующий Дух атмосферы, — таков он как целое во всем и повсюду» (Eis ton Hagion Pascha, ed. Nautin, Sources Chrétiennes Bd. 27, S. 177—9). Подобным же образом изображает Христа Хильдегарда и столь же возвышенно — Николай Кузанский в третьей книге «Ученого незнания».
Мера наивозможной близости и наивозможного отдаления человека и Бога обоснованна, поддержана и преодолена мерой подлинной близости и подлинной дистанции между Отцом и Сыном в Духе — на кресте и в воскресении. Никто, как Сын, не знает, что такое — жить в Отце, покоиться на его лоне, любить его и ему служить. И потому никто не знает и того, что означает — быть им покинутым7.
7 В этом смысле Христос может быть назван конкретной analogia entis, поскольку он в самом себе, в единстве своей Божественной и человеческой природы задает масштаб для всякой дис-
63
в. Историчность благодати
В раскрытом таким образом пространстве, с теологической точки зрения, существует изначальная возможность для глубочайшего хода истории, поскольку это пространство раскрыто внутри наисвободнейшей свободы Бога (ибо что может быть свободнее, безусловнее, благодатнее, чем план и претворение в жизнь вочеловечения Сына?), и потому оно само также является пространством свободы: свободы Бога, предоставляющей пространство для свободы человека. В этом пространстве человек может разыгрывать драму истории. Поскольку же это пространство —
танции между Богом и человеком. И это единство составляет его личность в той и другой природе. Философская формулировка analogia entis относится к масштабу Христа так же, как мировая история — к его истории: как обетование — к исполнению, предварительное— к окончательному. Он до такой степени конкретен и централен, что на последней глубине помыслить его можно только исходя из него самого, и в этой точке всякий вопрос типа «что было бы, если бы его не было?» или «если бы он не вочеловечился?» или «если бы мир пришлось представить без него?» — обнаруживают свою полную ненужность.
Философия подразумевает некие истинностные таблицы, которые для развитой философской мысли являются обязательными и абсолютно строгими. Так, само понятие Бог предполагает, что он свободен создать мир или не делать этого, а равно и то, что при создании человека Бог не обязан делать человека причастным внутрибожественной жизни. Если, однако, сам Бог обнаруживает свой изначальный замысел в том, что он от вечности поволил творение, в том, что он, связанный с миром нерасторжимыми узами ипостасного единства, уже не может существовать без мира, что он замыслил и заранее определил человека как брата своего вечного вочеловечившегося Сына, тогда становится очевидным, что уровень философии оказывается превзойденным (хотя нисколько не утратившим своей ценности).
64
Христово, то оно никак не может быть пустым, напротив, оно внутренне оформлено, структурировано и насквозь пронизано определенными «категориями». Вся его смысловая структура вырастает из (внутренних) ситуаций земной экзистенции Христа. Человечество не может выпасть ни из Христова пространства вообще, ни из конкретно-образной структуры, заданной его жизнью. Последняя есть воистину «узилище», в котором «всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим 11, 32). Но она также является теологическим местом всякой свободы и красоты, поскольку сообщает экзистенции высочайшую идею, а также внутреннюю силу, чтобы стремиться к этой идее и стать в правильное к ней отношение. Эта структура представляет собой конкретный образ спасения, которое не ниспадает с неба в абстрактном виде, но помогает твари изнутри, сообразно ее нуждам. При этом каждая ситуация Богочеловеческой жизни внутренне столь богата и бесконечна, столь всесторонне соотнесена с окружающим и значима, что она порождает неисчерпаемую полноту христианских ситуаций, подобно тому как любая идея не может быть исчерпана или присвоена никаким количеством подвластных ей сущностей8. Ситуация Христа (подобно идее) — другого порядка, чем то, над чем она доминирует. Своим сверхвысоким положением она гарантирована от вся-
8 Поэтому, хотя числа, присущие небесному Иерусалиму в Апокалипсисе, и задают совершенно определенные структуры и образы, последние лишены ограничений, свойственных земным пространственно-временным числам. Хотя они и названы «окончательно», все же их конечность такого рода, что она не ограничивает их содержания в его внутренней бесконечности. Из подобной «субстанции» выстраиваются христианские миссии.
65
кого исчерпания, она есть источник бездонной исторической полноты и глубины.
Любую ситуацию в жизни Христа нельзя понимать как конечную, замкнутую величину, которая может быть отграничена от другой, будь то одновременной, предыдущей или последующей, как это можно сделать с любой естественной ситуацией в мировой истории. Измерение ситуации Христа всегда открыто ввысь, поскольку она есть реализация божественной, вечной жизни — в мире. Ее смысловая наполненность, всеобщая соотнесенность с окружающим бесконечны уже в ее собственной историчности, не говоря даже о формах ее универсализации (см. следующую главу) применительно к Церкви и всем индивидам. Поэтому каждая подобная ситуация представляет собой неисчерпаемый объект для христианского созерцания, и те святые, которые в течение долгих лет, а то и всей жизни предавались созерцательному раздумью о какой-нибудь одной тайне земного бытия Господа, с теологической точки зрения поступали совершенно правильно. Всеобщая соотнесенность каждой отдельной, четко определенной (а ни в коем случае не туманно-расплывчатой) христологической ситуации столь велика, что она может породить даже совершенно различные, разграниченные между собой ситуации, которые, однако, — вопреки скороспелым выводам ситуативной этики — не имеют релятивистской автономии, но обретают свои нормы и правила в ситуации Христа, порождающей их и снова вбирающей в себя. В свою очередь, конкретная ситуация Христа включена в единую целостность всех христологических ситуаций, образующих в своем единстве воплощение Логоса и «толкование Бога» (Ин 1,18).
66
По самой своей сути христианская благодать ставит индивида в определенные христологические ситуации. Благодать не есть неопределимое онтическое нечто, впервые обретающее свое качество лишь тогда, когда она застает конкретного человека в его историческом состоянии. Не человек определяет неопределенную благодать, но напротив, сама благодать, определенная Отцом в Духе через вочеловечившегося Сына, должна определить неопределенного в себе, долженствующего быть индифферентным человека, — определить в качестве того, кем он отныне должен стать в Церкви и мире перед лицом Бога. Христологический характер благодати далеко не исчерпывается тем фактом, что причиной происходящей от нее заслуги является Христос. Она есть личный дар Троицы особо каждому верующему, который, однако, стал таковым, поскольку он, как член тела Христова, получил часть в его жизни — той мерой, которая, в Святом Духе, была ему уделена (Рим 12, 3; 2 Кор 10, 13; Еф 4, 7) и которая, как совершенно очевидно, имеет не количественный, а качественный характер. Благодать является внутренне историчной и историко-образующей, — и не потому, что, будучи чем-то сверхисторичным, она вовлечена в историю по воле и усмотрению человека, но потому, что она сама содержит и несет с собой меру и смысл ежемоментно провидчески творимой истории. Это означает даже больше того, что Фома Аквинский в своей «Теологии человека» усвоил Христу как «instrumentum conjunctum».Хотя он и поднимается здесь до понимания внутреннего христологического образа благодати, из которого нетрудно вывести также ее экклезиологический образ вместе с его далекими последствиями, все же эссенциалистской мысли
67
высокой схоластики не было дано непосредственно усмотреть личностную мощь христианской благодати, порождающую ситуации. И все же благодаря этому глубоко качественному и личностному подходу в полной мере становятся понятны, превращаясь в предмет веры, и преклонение перед благодатью, и настоятельность ее зова, и неповторимая единичность каждой встречи с нею, и необходимость для христиан ответа на ее проявления. Там, где присутствие Бога в мире и в каждой отдельной личности мыслится как нечто такое, что всего лишь затмевает всеобщее философское солнце, которое всегда на виду, поскольку никогда не восходит и никогда не заходит, — там едва ли возможно постичь качество иоанновского света, излучаемого солнцем, которое всегда восходит именно в эту минуту и всегда вот-вот зайдет, восход которого (также и для нас!) заключает в себе угрозу заката и лишения: «... еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма... Доколе свет с вами, веруйте в свет... Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них» (Ин 12, 35-36).
Однако внутренняя историчность благодати, изоморфной Христу, и ее формирующая историю сила заключается не только в том, что Христос своим земным существованием явил и истолковал нам Отца, через свое вочеловечение сделался живым таинством триединой жизни, но и в том, что он вышеописанным образом принял в себя нашу историю и нашу традицию. Он прожил не какую-то абстрактную человеческую жизнь, но, живя, познал и изведал пеструю и сырую историчность реального человечества, своим повиновением Отцу сконцентрировал в себе всю конкретную историчность Отцова творения, чтобы высвободить ее
68
истинный смысл и тем самым воздать поклонение и оправдать сотворившего мир Отца. Время и история, в которые он вошел в силу своего заместительства и благодаря вбиранию конкретной человеческой судьбы в свою собственную искупительную судьбу, сделались для него столь интимно-внутренними и обжитыми, что при раздаянии даров благодати (которое на деле является лишь другой стороной вбирания мира в его «растущее тело») и время, и история стали имманентными свойствами его благодати. Показательно, что в Послании к Ефесянам нисхождение (кенозис) в исторический план, восхождение и возведение «плененных» в судьбу Христа и персональное раздаяние ситуационно-конкретных внутренних даров благодати связаны воедино: «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: “восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам”. А “восшел” что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поставил одних Апостолами, других пророками» и т. д. (Еф. 4, 7-11).
Так уясняется переход исторической обусловленности жизни Христа в другое ее качество: способность обуславливать историю. Существование Христа как отдельного человека наделяет смыслом все остальные существования как в будущем, так и в прошлом времени. Ретроспективный аспект этого смыслонаделяющего акта лишь по видимости более удивителен, чем его перспективный аспект. Ретроспективный аспект означает, что в любой момент времени возможно не только истолковать смысл прошедшего пусть даже тысячелетней давности, но и творить это прошедшее.
69
Смысл событий, принципиально профетических (мы не имеем в виду исполняющихся предсказаний), может не только быть незначительным и частичным, — он может вообще быть утрачен. Ибо профетическая корреспонденция — это не просто эпифеномен событий, могущих быть достаточно полно истолкованными по-иному: в историческом, социальном, культурном, религиозно-социологическом планах. Если все происходящее не будет держаться на острие этих соответствий, оно вообще ни на чем не удержится и не сможет состояться как религиозная история завета-союза между человеком и богом. Жертва Авраама, сколько бы религиозно-исторического материала она ни содержала, теряет свое значение, если не видеть в ней предзнаменования грядущего креста. Событие, произошедшее на Синае, царствование Давида и Соломона, слово и символическое бытие пророков — все это было бы для нас совершенно непонятно, если бы не было прожито «в надежде», как «вера» в целостность Божьего дела и объективно не обрело бы своего смысла от того, чем столетия спустя будет и что станет делать Иисус Христос. От него зависит, таким образом, придать смысл прошлому. Послушание древних Богу заключалось в том, что они верили, надеялись и жили в соответствии со своей верой. Но тот факт, что их доверие было осмысленным, а не воплощением абсурда, находит обоснование не в психологическом качестве их веры, но в свободных решениях Христа. Через него поверили они в союз с Богом, его свободе вверили возможный смысл своих деяний и своей жизни. И в этом сказалась едва ли не неимоверная сторона христиански-исторического выбора. Ибо нечто из того, что Христос совершает ввиду лежащей перед
70
ним истории, он сообщает также верующим в него. Все христианские миссии покоятся на вере и потому должны, под сенью Церкви, вверять свой смысл Богу в лице Христа. Христос приносит с собой также сопряжение христианских миссий: более поздняя теперь может оправдывать раннюю. Быть может, кому-то из Отцов Церкви, какому-то средневековому учителю лишь для того была открыта некая истина, чтобы его позднейший потомок мог ее воспринять, истолковать и рассмотреть в подлинном свете, во всем ее значении для Церкви. Лишенные подобного истолкования, деяния предков оставались бы неисполненными, подобно бессмысленной и докучной яме, пока в ней не смонтировали фундамент и сверху не возвели дом. Итак, с историко-теологической точки зрения, по крайней мере, нельзя сказать, что любой отрезок времени и любая жизнь несут в себе успокоенный и завершенный смысл. Прошедшие времена и судьбы столь в малой степени замкнуты и окончательно пройдены, что в любую минуту к ним открыт непосредственный доступ, делающий возможным определить их в самой их сущности (лишь по видимости целиком оставленной в прошлом) и постоянно преобразовывать в ходе времени. Таково и христианское деяние, которое оказывает воздействие на будущее: всякое дело, совершенное в истинной вере, соделывает, здесь и сейчас, не только настоящее, но и будущее — тем, что самым действенным и безошибочным образом определяет и преобразует структуру грядущего. Поэтому совершенно справедлив призыв к Церкви и христианам — более всего молиться о будущих поколениях (молитва как дело). Благодаря жизни Иисуса становится возможна Церковь и жизнь в Церкви; жизнь Иисуса потенциально в
71
них содержится и выступает по отношению к ним как их истинное будущее. Так каждая исполняемая христианская миссия закладывает основание для новых миссий. Уклоняясь от призыва: «как живые камни, устрояйте из себя дом духовный» (1 Петр 2, 5), христианин отрицательно влияет на миссию всех тех, кто впоследствии должен был включится в ее исполнение на основе исполненного им. Судьбы всех переплетены между собой; пока жив последний, смысл жизни первого окончательно не определен. Поэтому и «частный суд» всегда может иметь лишь предварительный характер, и человечеству в конце концов предстоит неким единым и неделимым актом, в одно и то же время социального и индивидуального порядка, быть положенным на весы вечности. Но все взаимоопределения и преобразования, исходящие от прошлого и от будущего, подчинены всеопределяющей судьбе вочеловечившегося Сына. Высший суд принадлежит ему одному. Именно ему, а не Отцу, так как Отец «весь суд отдал Сыну» (Ин 5, 22), поскольку у Сына для измерения людских дел есть не только трансцендентная, чисто божественная мера, но также и мера имманентная, обретенная из собственного опыта познания человеческих возможностей. Сын, однако, приобщит к сонму судей и всех тех, кто с верою принял позитивное участие в образовании мира. В той мере, в какой его святые реализовали собой глубочайшие историко-образующие силы, их вклад в создание этой меры также должен быть учтен при вынесении приговора.
72
3. ЭКЗИСТЕНЦИЯ ХРИСТА КАК НОРМА ИСТОРИИ
а. Роль Святого Духа
Выше мы обосновали тот факт, что благодаря концентрированному воспроизведению истории в Христе он становится нормой истории. Однако неразрешенным остается еще один трудный вопрос: каким образом применяется эта норма. Недостаточно указать на то, что Сын жил в историческом времени, в котором сполна реализовал отцовскую волю. В этом отношении его жизнь — только одно из множества земных существований, и если она не является ничем другим, то даже при высочайшем своем совершенстве он являет собой не более чем моральный образец (пусть недостижимый) для всех, кто жил прежде и после него. Чтобы понять жизнь Христа как непосредственную внутреннюю норму всякой вообще жизни, требуются новые ее определения, которые, во-первых, затрагивали бы реальность самого Христа (о чем сейчас пойдет речь), и во-вторых — воздействовали бы на реальность остальной истории (этому посвящена последняя глава).
Итак, прежде всего нужно найти ракурс, с которого индивидуальное историческое существование Христа могло бы быть универсализировано таким образом, чтобы оно сделалось непосредственной нормой всякого исторически-индивидуального существования. Событие универсализации есть — на совершенно особый лад —деяние Святого Духа. Именно Дух «наставит
73
вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит... от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин 16, 13—14). И именно Дух налагает свой отпечаток на историю и на лик Церкви и каждого отдельного верующего — тем, что он истолковывает жизнь Иисуса (которую уже истолковал сам Отец) и придает ей образ и настоятельность ежемгновенно значимой нормы. Он не инициирует нового откровения, но лишь раскрывает всю глубину уже вершащегося откровения во всей его полноте и придает ему новое измерение, ранее миру не известное: абсолютную актуальность для каждого мгновения истории.
Подобное выделение части истории с целью возвысить ее до статуса всеисторичности предполагает несколько моментов, связанных с Духом, однако различимых между собой. Первый момент касается воздействия Духа на самого вочеловечившегося Сына, как оно было отчетливо видно, скажем, в течение сорока дней по его воскресении. Второй момент отражает действие Духа как соотнесение преображенного таким образом Христа с исторической церковью каждой эпохи; это действие образцово сказывается в таинствах и прежде всего — в Евхаристии. Третий момент завершает указанное соотнесение тем, что учреждает церковные и личные миссии как конкретные приложения жизни Христа ко всему многообразию церковной и христианской жизни.
Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению трех перечисленных моментов, совершенно необходимо указать на их единство и взаимную принадлежность. Если первый и третий моменты носят преимущественно личностный характер (первый — что касается Христа, третий — других христиан), то
74
второй момент, напротив, преимущественно сакраментальный, и потому прежде всего следует уяснить себе переплетенность обоих аспектов: отнесение персонального в Христе к персональному в личности каждого отдельного христианина возможно только в форме церковно-сакраментального, т.е. по видимости внеличностного. Однако в таинствах нет ничего такого, что не было бы вложено в личностное, не было бы опосредованием и встречей, не было бы замышлено в качестве личного жеста и тем самым не несло бы в себе личностно-исторической благодати и не создавало личностно-исторических ситуаций.
б. Сорок дней
Первые сорок дней Воскресшего принадлежат к обоим временным планам: к земному и к вечному. Они составляют фрагмент Евангелия, продолжение общения Иисуса с учениками, искупительное и любовное снятие всякой отчужденности и дистанции между тем и этим миром, обновление внутренней связи с обоими мирами, питаемое ощущением их историко-временного бытия. Это дни самоочевидной и непосредственной встречи с Иисусом, когда можно было его видеть, слышать, касаться и есть с ним за одним столом. Тот, кто поначалу показался потрясенным ученикам неким «духом», стоял совсем рядом и обращался к ним с мягкой улыбкой: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Лк 24, 39). А поскольку этого оказалось недостаточно, Господь сделал большее. «Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им:
75
есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними и отдал им, что после того осталось» (Лк 24, 41—43). Подобная же остенсивная выразительность характеризует эпизод уверения Фомы (Ин 20, 24 сл.), общую трапезу при Тивериадском море (Ин 21, 8—14); тем же непосредственно чувственным образом ученики физически воспринимают вдуновение Духа. Все перечисленное совершенно бесспорно свидетельствует, что Воскресший и свидетельствовавшие апостолы пребывали на земле одновременно. Если Иисус — не чистый Дух, но имеет плоть и кости, до которых можно дотронуться, если он вкушает от того же мяса, меда и хлеба, что и ученики, то и его время не есть духовное время или иллюзорная феноменальная длительность, но такое время, доподлиннее и истиннее которого нельзя себе помыслить. И то, что оно является также его собственным вечным временем, ничего в данном отношении не меняет. Противоречие возникло бы лишь в том случае, если бы мы стали исходить из предпосылки, что временность несовместима с вечностью, не может быть в ней растворена и укрыта, т.е. не может быть снята в позитивном смысле.
И подобные предрассудки были разрушены посредством зрения, осязания, слышания, вкуса и непосрдственцого чувства захваченности случившимся. Первое, и неоспоримое, положение о времени Воскресшего заключается в том, что его время не может быть удалено и отчуждено от нашего собственного времени, но напротив — состоит с ним в отношении наглядной континуальности. Это становится особенно ясно во время совместного пути в Эммаус, когда слова и события подчеркнуто чередуются и перепле-
76
таются между собой. Поскольку глаза учеников «были удержаны» и они не узнали Воскресшего, т.е. момент вечности был как бы затемнен, то весь этот эпизод стал практически неотличим от эпизодов прежней жизни Господа. Невозможно себе представить, что все это — интимная доверительность, пребывание бок о бок в общем пространстве и времени, взаимный обмен репликами — может быть основано на иллюзии. То, что здесь выявляется, — это не раз навсегда заданное отношение «пипс starts» к последовательным мгновениям бегущего времени. Это действительно совместный путь, сопутствие и даже совместное «пропускание» вечности сквозь время. Возникает действие прямое — и встречное, влияние прямое — и обратное. Сначала Иисус «показывал им вид», что хочет продолжить путь, но потом позволил себя «удержать» и остался. Затем общая дорога и общая беседа привели их на Масличную гору, правда, на этот раз речь заходит не об истоках Царствия небесного в прошлом, а о его будущем приходе, и теперь Иисус не позволяет себя удержать, но исчезает, чтобы продолжить путь, начатый в эти сорок дней и ведущий во время церкви, — и увлекает за собой учеников по этому пути. Таким образом, время сорока дней — это совершенно реальное время, хотя теперь оно уже не есть время к смерти, но время воскресения, не время страдания и служения, не тяжкий гнет, но время как владение пространством и обладание «заслуженным», т.е. дарованным от Отца господством. Время воскресения нельзя рассматривать как продолжение времени страданий, поскольку это последнее предполагает конечность промежутка между рождением и смертью и потому что всякое продолжение (на той же самой ступени) нанесло бы
77
ущерб самому достоинству страдания. Это уже не время рабства, но — господства, а именно, господства над временем, дарованным от Отца Сыну. И это его время раскрывает всю содержащуюся в нем полноту вечности. Этим временем распоряжается тот, кто в течение исторического времени отдавал в распоряжение самого себя. Поэтому земная жизнь Господа не может, в его личной перспективе, считаться прошедшей (хотя даже его ученикам она неизбежно представлялась именно таковой), поскольку вся, как целое, была преображена в свое воскресение, вознесена и приобщена вечности и потому стала живым и доступным для приобщения достоянием, из которого он потом построит свою Церковь.
В эти сорок дней Церковь включила в свой опыт общение человека Иисуса с другими людьми, его учениками, так что его божественная слава, актуальное присутствие вечности внутри времени излучают непрерывное и зримое сияние. А поскольку невозможно, чтобы временность Воскресшего претерпела какие-то изменения в результате вознесения, то для нас вознесение имеет, скорее, смысл некоего знака конца и потому его временность, раскрывшаяся в течение этих сорока дней, должна оставаться неизменным основанием всякой дальнейшей модальности его актуального пребывания во времени. Каким он был тогда и каким себя обнаружил, таков он и есть в своей окончательной реальности. Вознесение не сделало его чуждым нашему миру. Он для того и включил в свою жизнь сорокадневный промежуток между воскресением и вознесением, чтобы в продолжение этого времени показать всем своим присным, что он остается с ними «во все дни до скончания века» (Мф 28, 20).
78
Однако эти сорок дней не являются временем, завершенным в себе (подобно времени Рая или времени после Страшного Суда), поскольку они служат для установления связи между временем земной жизни Иисуса и временем Церкви. Господь проходит эти сорок дней, чтобы «явить Себя живым... со многими верными доказательствами» и чтобы «говорить о Царствии Божием» (Деян 1, 3), — две цели, образующие неразрывное единство. Царство Божие, открывающееся через его живую жизнь, истолковывает само себя таким образом, что прошедшая история становится понятной в свете его земной жизни, а его земная жизнь постигается в свете прошедшей истории. С одной стороны, читаем: «...вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в Законе Моисеевом и в Пророках и Псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день» (Лк 24, 44—46). С другой: «...о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании» (Лк 24, 25—27). Изъясняя смысл истории в обоих направлениях — от исполнения к обетованию и от обетования к исполнению — он тем самым совершает, в самом средоточии истории, конечно-исторический и общеисторический акт: как эсхатон истории, он актуально присутствует в ее центре и в сугубо историческом кайросе раскрывает смысл всякого кайроса вообще. И делает он это не с помощью дистанцирующего размышления об истории, но находясь внутри
79
исторического мгновенья, в котором он актуально присутствует и как живое доказательство своей собственной жизни, и как личное высказывание Божьего Царства. И хотя в это мгновение все то, о чем он говорит, т.е. его земная жизнь, подытоженная им в преддверии страданий, кажется прошедшей, все же недостаточно было бы сказать, что он, подобно ангелам у гроба, лишь вызывает прошедшее в своей памяти (Лк 24, 6—7). Ибо, поскольку он сам в этом реальном присутствии представляет себя и все Царство как присутствующих (παρέστησεν ἑαντόν Деян 1, 3), то он и есть тот, кто своим актуальным присутствием здесь и сейчас являет исполнение всего прошедшего и как Исполняющий актуализует прошедшее: свое собственное и Божьего Царства. «Слова», которые он здесь представляет как актуальные (Лк 24,44), суть слова, сказанные прежде, и они в равной мере являются произнесенными словами и совершенным деянием9.
Однако это раскрывающая и исполняющая актуализация всего прошедшего должна указывать собою на будущее Церкви, которой в эти сорок дней предстоит быть окончательно учрежденной и установленной. Все произошедшее в эти сорок дней имеет явно выраженный экклезиологический смысл, что особенно отчетливо видно у Иоанна — в эпизодах с участием Иоанна и Петра, где задается не только церковный, петрологический срез Евангелия любви, но, при ближайшем рассмотрении, в концентрированном виде представлена
9 Наес sunt verba’, id est haec sunt res, quas uti locatus sum et praedixi vobis, ita jam vos re ipsa perfectas et complétas videtis: res istae sunt mea passio, crucifixio, mors et ressurectio, ut sit metonymia, qua saepe verbum pro re verbo significata sumitur» (Cornelius a Lapide ad loc.).
80
вся экклезиология вообще), о чем говорят также речи- послания в Евангелиях Матфея и Марка, а также вышеприведенные слова Иисуса ученикам в Евангелии Луки. Будучи временем зримого учреждения Церкви зримо Воскресшим, сорок дней отличаются как от грядущего события Пятидесятницы, так и от последующего затем времени церковной истории. В отличие от Пятидесятницы, эти дни зримо показывают, что грядущая работа Святого Духа исходит от самого Вочеловечившегося. Вдуновение Святого Духа апостолам со словами «примите Духа Святаго» (Ин 20, 22), а также последнее наставление Иисуса ученикам — ожидать Святого Духа в Иерусалиме (Лк 24, 44—49) — свидетельствуют, что зримое деяние Господа следует воспринимать как инициирование незримого действия Духа. Это указание, ожидать Духа, очевидным образом дается «через Святого Духа» (Деян 1, 2), а излияние Духа пока еще видимым Господом обетовано как его собственное деяние: «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас» (Лк 24, 49).
Христос, который в течение этих сорока дней истолковал всю свою земную жизнь и положил начало своей грядущей жизни в Церкви, есть тот самый, кем он был до своих страданий на земле: heri-hodie. То, что он делает теперь открыто, он делал и прежде, во время своей исполненной страданий жизни, но сокровенно. Иначе он не мог бы теперь истолковать себя самого как того же самого, что был всегда. Тридцать три года соотносятся с сорока днями, как сокрытие с откровением, как чувственное созерцание с духовным, опосредованность с непосредственностью. Эти соотношения затрагивают модальность откровения, но не субстанцию откровенного. Также и Христос, каким он
81
был до страданий, есть Бог и человек, вечный и временный, в одном лице. Его земное время охватывает не только аналогию телесно-душевной длительности, по привычке ассоциируемую нами с аналогией смертное-бессмертное, но также ту особую аналогию, что существует между бытием у Отца и бытием в мире. На земле он не имеет где приклонить голову, но незримо он всегда держит ее на коленях у Отца. На Фаворе божественность и вечность, актуально, хотя и сокрыто, присутствующие в каждом временно́м мгновенье его жизни, начинают изливаться светом и становятся видны для глаз учеников как всегда присутствующие и неотлучные. И в этот же момент в видимое присутствие вступают Моисей и Илия, закон и пророчество, — и не как случайные лица, но в качестве неотделимых спутников Господа, как время обетования и время исполнения в их актуальном и имманентном присутствии, не абстрактно, но во всей телесной реальности людей и событий. В жизни Христа Ветхий Завет присутствует актуальным образом, хотя и в латентной форме, каждый миг этой жизни превышает сам себя, ибо он есть актуальное присутствие всего исполненного, «полнота времен» в некоем качественном смысле, поскольку время возведено в план вечности. Лишь благодаря этому Христос может в продолжение этих сорока дней раскрыть вечную сторону своих слов: «Вот то, о чем Я говорил, еще быв с вами» (Лк 24, 44). То, что Господь раскрыл в продолжение сорока дней, есть не что иное, как прежде сокрытое, но уже раньше присутствовавшее абсолютно реально. По своему смыслу это — не продолжение в той же временно́й плоскости чего-то содеянного ранее, но знаменование вечности, содержащейся в содеянном. Однако открытое Госпо-
82
дом происходит внутри времени учеников: поскольку раньше он причастился времени изнутри вечности, теперь он может причаститься вечности изнутри времени.
Здесь заложено истолкование теологической проблемы универсалий. Ранее было сказано, что жизнь Христа составляет «идейный мир» мировой истории. Он сам есть конкретная личная и историческая идея, universale concrétion et personale.Поэтому он ни в одно мгновение не является universale ante rem,ибо res и есть его собственная историчность и временность. Он есть universale in re, сверхвремя во времени, всеобщая значимость внутри мгновения, необходимость в фактичности, причем на протяжении тридцати трех лет акцент падал на res, а в период сорока дней — на universale.И лишь в качестве такого universale in re он становится — в отношении ко времени обетования — в известном смысле universale post rem, в отношении же времени Церкви и каждого отдельного христианина — universale ante rem, однако и та и другая universaleнеотделимы от universale in re совершившегося вочеловечения. Заложенная в этом abstraktio есть не что иное, как упомянутое в начале этой главы деяние Святого Духа, который, однако, совершает ее (чтобы быть истиной, см. 1 Ин 2,21—22) лишь в постоянной «conversio ad phantasma»,т.е. в обращении к чувственной реальности Евангелия.
В действительности эти рассуждения о месте сорока дней в теологии истории приводят к мысли, что вершителем уже этого первого откровения истины Сына является Святой Дух. Всякое воскресение плоти есть его деяние. И всякая воскресшая плоть есть такая плоть, в которую он вселился и которую он наделил
83
своими свойствами. Mortificatus quidem came, vivificatus autem Spiritu (1 Петр 3, 18); factus est... novissimus Adam in spiritum vivificantem ( 1 Kop 15,45). Поэтому в отношении мертвящей буквы «Господь есть Дух» (2 Кор 3, 6.17), а какдействующий он есть «Господь Духа» (2 Кор 3,18)10. Тот же Дух, который по поручению Отца совершил вочеловечение Сына под сенью Матери, завершает свое дело воскрешением этой плоти. И он увенчает ее не в последнюю очередь для того, чтобы вновь вложить одухотворенную таким образом плоть в чрево «Жены» (Откр 12), которая тем самым становится духовной и космической Невестой, т.е. Церковью.
в. Таинства
После всего сказанного вторая ступень универсализации, т.е. уровень сакраментального, перестает казаться чем-то абсолютно темным и непостижимым. Основное положение состоит в том, что, поскольку это касается Христа, Евхаристия, равно как форма пребывания Христа в Евхаристии и в других таинствах суть те же самые, что были в течение сорока дней. Сейчас, как и тогда, он является Воскресшим, живет в вечности Отца, его земное время, как и он сам, преображено в вечное пребывание, и он, как Христос, in saecula сопутствует своим присным во времени. Единственное различие состоит в том, что в продолжение сорока дней это сопутствие совершается в откровении полноты, тогда как позднее, во время Церкви, оно протекает скрыто внутри сакраментальных форм. Однако сорок дней отчетливо представляются как инкоация, введе-
10 В синодальном переводе «Господень Дух». ![]()
84
ние последующих дней, церковных. На самом же деле взаимная связь и близость между этими периодами еще глубже. Ибо если до креста Господь был доступен для чувственного созерцания и как раз поэтому сокрыт для созерцания духовного, то по погребении он стал в принципе доступен лишь очам верующих. То есть очам тех, кто, подобно апостолам, уже уверовал, и тех, кого, как Павла, он привел к вере своим явлением. Пространство, способное предоставить внутри себя место для явления (ибо теперь явление всегда означает откровение божественного в человеческом Иисуса), есть вера, — именно вера как утвержденный крестом, объективный и неизменный факт «Нового и Вечного Завета», как выражение того, что этот Завет в своей обоюдности уже не подвержен опасности человеческой измены. Вера по ту сторону колебаний любого отдельного человека, к ней причастного, вера как всегда наличная связующая среда, в которой Воскресший может актуально присутствовать без унизительного страдания, вера как нечто отныне столь же неизменное, как откровение, вера как данный Спасителем надежный ответ на его собственное слово, вера, созидающая догму, церковное вероучение и даже саму Невесту-Церковь. В этой среде, о ненарушимой чистоте которой печется Святой Дух, Сын получает возможность актуально присутствовать в модусе таинств.
О том, что сакраментальная форма экзистенции Господа ничем не отличается от экзистенции сорока дней, свидетельствует, далее, то, что в первой он выступает как истолкователь своей собственной жизни, каковую являет и дарует в откровении, несет с собой, актуализует и репрезентирует. В этом смысле можно говорить о его «актуальном присутствии в таинствах»,
85
причем основное положение «теологии таинств» следует искать в том, что присутствие Христа и благодатное жертвование им самого себя, т.е. своей земной экзистенции, в сакраментальном акте определено качественным образом. Нужно, однако, выйти за намеченные здесь рамки и точнее определить внутреннее содержание отдельных таинств. Тогда станет ясно, что взгляд, согласно которому таинства определяются и дифференцируются исходя не из самих себя, но соответственно типическим ситуациям человеческой и церковной жизни (к которым позже прилагается благодать Христа, но которые сами ее специфицируют), лишает жизнь Богочеловека ее изначальной прообразующей силы. Христианское таинство брака не есть нейтральная надприродная благодать, надстроенная над «естественной институцией», нет, оно само содержит в себе свой подлинный смысл, и более того: подлинную субстанцию брака, прожитую Христом, скрепляющим этот союз самим своим существованием. И данный брак как бы вовлекает людей в определенное отношение между Господом и его Церковью, обосновывающее и оправдывающее всякий вообще брак. Таинство покаяния также не является приложением благодати Бога к члену Церкви, который подпал греху. Оно есть вовлечение в прообразующее христологическое деяние и состояние: в состояние Распятого, который перед лицом Отца несет и осознает в себе все грехи мира и который в воскресении получает зримое «отпущение грехов». Так и для каждого таинства можно было бы указать личностную, исторически- конкретную реальность, которая раскрывается, предлагается, свободно дается для причащения и уделяется воспринимающему человеку. Вступая в таинстве
86
в единое время с верующим, Господь дарует ему возможность (в принципе открываемую верой) вступить в единый образ с Вочеловечившимся. И та благодать, которую источает при этом Христос, ни на мгновение не отделима от вочеловечения, его отношения к Церкви, его историчности. И само собой разумеется, что его существование в таинстве актуализуется не в историческом прошлом, но «in mysterio». Только нельзя понимать таинство (mysterium) как чистую сублимацию из истории некоего «вечного содержания», как жизнь личности после жизни — личности, которая продолжала бы действовать после того, как все ее действия отошли в прошлое. Таинство — это ^прекращающаяся одновременность «abstraction — и «conversio ad phantasma», универсальности — и исторической конкретности.
При таком подходе Месса как совершение Евхаристии тоже не взрывает рамки сакраментального, хотя здесь актуализация присутствия Христа приобретает новую интенсивность. Не какой-то один особый момент земного существования Христа (как в случае с другими таинствами) — в Евхаристии всей Церкви и отдельному человеку жертвуется вся телесность этой экзистенции, достигающая своей высшей исполненное™ как жертвенная телесность на кресте. Поскольку новый и вечный брачный союз между Божеством и человечеством запечатлевается кровью на кресте в любовной жертве Единственного, чье двоякое естество было средоточием и источником заключения завета, то отныне его единая жертва Отцу содержит в себе некую двойственность: жертву главы и жертву тела, жертву жениха и жертву невесты. Одна кровавая свадьба изначально содержит в себе не только телесную жертву
87
Господа своей Церкви — вплоть до конца света, но и всякую ответную жертву Церкви, уже заранее, на Тайной Вечере, включенную Господом в совместное литургическое празднование службы Креста. И когда потом, во время Святой Мессы, Церковь будет удостоена истинной и телесной одновременности с жертвующим себя ее Главой, произойдет нечто значимое не только для Церкви, но также радикальным образом и для Господа, нечто такое, что можно уподобить более всего встречам Воскресшего (реальным также для него самого!) с Марией у гроба, с апостолами, с Фомой и другими, знающими его, или совместной утренней трапезе на берегу моря.
Из причастия Церкви Господу и возникает нечто, что можно назвать сакраментальным, прежде всего евхаристическим, временем. Его особенность в том, что вечный Господь всякий раз заново вступает в одновременность со своей Невестой, не покоряясь при этом распадшемуся времени и не будучи им измеренным. В этом сакраментальном времени отсутствуют черты какой бы то ни было негативности и распада, зато оно содержит все позитивные моменты, свойственные земному времени. Как и земное время, в котором оно означает исполнение, сакраментальное время имеет момент начала-раскрытия, которому не соответствует никакого конца-закрытия. Нельзя сказать, что позитивная власть, способная вызвать событие — евхаристическое присутствие Господа — противостоит ограничивающей ее антивласти, банальной силе телесных соков, которые растворяют species в организме причащающегося. Посредством само-актуализации Господь дарит нечто вечное (самого себя), не исчезающее при подобном растворении. Раскрытию,
88
которое не закрывается, соответствует событийное как таковое, не перекрываемое надвигающимся временем, и уж точно — никаким последующим, новым причастием, и это также означает, что не существует чисто количественного суммирования действий сакраментальных актов. Самое большее, что здесь можно допустить, — что специфически евхаристическое время Господа «ограничено» в отношении отдельной личности ее смертью, в отношении Церкви — Страшным Судом. Но и здесь ничего не снимается и не забирается обратно, лишь форма жертвования становится излишней, поскольку Господь больше не должен вливать себя в эту предусмотренную для церковного времени оболочку.
Время сорока дней и время таинств имеют одинаковую эсхатологическую ориентацию. Оба времени, каждое по-своему, суть предварительные дары вечности. Но если сорок дней предваряют грядущую открытость какбы неким снятием покровов, то таинственные встречи с Господом указывают на нее сокрытым образом. Как крест есть предварение Последнего Суда, так сорок дней предваряют вечную жизнь. И поскольку сорок дней являются также зримым введением в сакраментальное время, то они и ему придают эсхатологическую ориентацию. И это опять-таки — особое деяние Святого Духа. Он пробуждает плоть к жизни, и он же всякий раз осуществляет сакраментальную актуализацию Господа. Не Отца, принимающего жертву, не Сына, который сам есть жертва, не Церковь, которая как институция молится и опосредует дары, но «Creator Spiritus»должны мы считать исполнителем чуда жертвоприношения, пресуществления (на что прямо указывает древняя эпиклеза). Дух здесь, как и
89
повсюду, является подоснбвным событием, инициатором, что наполняет ожидающую форму бесконечным содержанием. Он есть Господь таинств, поскольку институционален и персонален. В качестве церковноинституционального Дух уготовляет сосуды, устанавливает универсальные и значимые рамки, т.е. лепит из жизни Христа эти по видимости столь застывшие и безжизненные статуи. В качестве личностного Духа любви — вдыхает в эти статуи жизнь Христа и исполняет их уникальностью и историчностью божественной встречи. И это есть вторая ступень универсализации.
г. Христианская миссия и церковная традиция
На третьей ступени завершается дело сорока дней и таинств: Церковь и каждый индивид подводятся в Духе под действие континуальной нормы, каковой является жизнь Господа. Христианин встречается со своим Господом не только при принятии таинств. Он непрерывно живет по его заповеди и закону. С одной стороны, закон Христа открыт и доступен ему как некое целое, и отношение к нему христианина приблизительно таково же, как у естественного человека к повседневным моральным максимам, действенным в каждый момент жизни. Господь установил свой закон, сведя древние законы воедино в «наибольшей» заповеди (Мф 22, 37) и влив ее ветхозаветную формулировку (Втор 6, 5; Лев 19,18) в новую форму: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин 15, 12), тем самым претворив абстрактный закон в закон для вполне конкретных людей, своих последователей. Именно в качестве конкретного воспринимают и провозглаша-
90
ют этот закон апостолы (1 Петр 2, 21; 1 Ин 3, 16; Еф 5, 1—2). Сама возможность следования примеру предполагает, что значимое ядро образца для подражания уже является чем-то единичным и конкретным. Поскольку же ученик не в состоянии выбрать для себя в жизни Господа то единично-конкретное, чему он должен подражать (иначе ему пришлось бы возомнить себя обладателем и оценщиком этой жизни), то он нуждается в некой инстанции, которая сопоставила бы ситуации из жизни Христа и этого христианина. И такой инстанцией является Дух. Он определяет, как и в какой мере можно подвести каждый данный момент жизни христианина под тот или иной аспект жизни Христа. Следует ли именно сейчас действовать или молиться заодно с Господом, скрываться или предстать рядом с ним перед его врагами, возглашать с Господом или молчать, как он, вкушать пищу или поститься с ним вместе, торжествовать или страдать в сыновней покинутости Отцом. Никто не может одновременно сделать двух противоположных вещей; чтобы выбрать одну из них, человек нуждается в норме. Для христианина норма — это не то, что он почитает лучшим, и не то, к чему можно прийти исходя их общих соображений нравственности. Поскольку речь идет о следовании высшему Богочеловеческому примеру, норма сама должна быть божественной, а коль скоро имеет место личное следование примеру, она должна быть личностной. Подобная норма может быть только Духом, который на этой третьей ступени являет себя во всей своей совершенной личностной власти. Ибо дело, которое он здесь берет на себя и которое передает ему Сын, есть дело высшей, божественной свободы. Перед ним — два фактора: жизнь Христа и «миро-
91
вая история», и ему надлежит так распорядиться всей чувственной полнотой жизни Христа, чтобы она развернулась во всем многообразии истории, а сама история, подведенная под действие этой нормы, обрела бы свою внутреннюю полноту. Он предоставляет каждому отдельному человеку руководствоваться своей волей, выбором и свободой, и он не навязывает себя извне, но действует изнутри внутреннего источника тварного духа не как «иной», но как возвышающийся над всякой инаковостью {de поп aliud — Николай Кузанский), настолько имманентно, что часто он становится неотличимым отдуха естественного. Он оставляет истории ее собственные, имманентные законы, но подчиняет ее вместе с ними закону Христа. Он призывает Церковь и каждого отдельного человека подчиниться этим законам или воздействует на их ситуации таким образом, что, независимо от своего желания, они попадают под их действие и направляются ими. Он, однако, делает все, чтобы растолковать им эти законы, сделать их понятными и достойными любви.
Его дело — не субъективное произволение, ибо он есть Дух Христа, Дух самого Логоса. Он свободно веет, где хочет, но при этом говорит не от себя, но лишь истолковывает, что есть Господь (Ин 16, 13—14). И сам он сказывается в этом истолковании не только как субъективный, личностный Дух, но как Дух объективный, абсолютный, заключающий в себе весь космос сверхличной истины. Он, прежде всего, является формообразующим и животворящим началом по отношению к Церкви, основанной Христом, исток которой — в человеческой природе Христа, принесенной им в жертву на кресте. Проведенная Павлом параллель между происхождением Церкви и происхождением
92
Евы от Адама (что единственно и позволяет говорить об «одной плоти»: Еф 5, 31—32) дает право рассматривать Церковь как объективацию Христа. Вся ее сущностная структура создана из его сокровенного Духа. Она воплощает самый смысл его прихода, его здесь- и так-бытия. Она, со всем множеством своих органов и инструментов, являет собой верный образ его человеческой природы, сущность, в которой он узнает самого себя и к которой он, покинувший отца и мать, может прилепиться, чтобы стать с ней одной плотью. Эта плоть, эта Невеста со-образна ему благодаря Святому Духу. Она не просто задает формальные рамки, внутри которых совершаются конкретные акты духовных запечатлений и инспираций для каждого индивида, но, в своей нерушимой вере, является чем-то вроде совокупного сознания всех верующих. Это последнее, хотя и не существует помимо и в отрыве от каждой отдельной личности, тем не менее не идентично отдельным сознаниям и не сводится к их сумме11. В сознании индивида есть точка, где sentireсит Ecclesia переходит в sentire Ecclesiae,которое, в свою очередь, неотделимо от sentire Spiritus Sancti.Столь многое оказывается достоверным независимо от умозрения, что sentire сит Spiritu Sanctoникогда не совершается вне или на грани sentire сит Ecclesia и, тем самым, не совершается помимо sentire Ecclesiae.Это последнее есть субъективная совокупная норма и одновременно — превосходящее всякий отдельный субъект правило универсализации жизни Христа, производимой Святым Духом. Церковь
11 Это сложная проблема, в которую мы не можем здесь углубляться. Cp. Eugen Biser: Erkenne dich in Mir, Von der Kirche als dem Leib der Wahrheit. (Johannes-Verlag, Einsiedeln 1955.)
93
располагает органами, которые осуществляют такое нормирование: это базисная структура состояний (мирское и божественное) и должностей (миряне и иерархия), таинства, катехизация, органы Писания и Традиции, стоящие на службе евангельской истины. Писание есть объективированный Духом и ставший нормой для всех веков Логос, взятый в совокупном контексте своего вочеловечения. По Оригену, Писание есть тело Сына Божия, поскольку он есть Логос, т.е. Слово-Истина, иначе, оно есть «тело», образованное Святым Духом как первый «слышатель Слова». В том конкретном образе, обличье и интонации, в каких Дух воспринял это Слово, он и запечатлел его в Писании для Церкви. Поскольку же то, что он в действительности слышал, неизмеримо богаче и глубже, чем может вместить любое буквенное «тело», то Дух взял на себя также истолкование услышанного для Церкви — посредством церковной традиции. Эта последняя представляет собой интерпретацию того, что было сказано в откровении (т.к. буква по самой своей сущности не совпадает с Духом, и записанное по необходимости является лишь неким обрывком, Ин 20, 30; 21, 25), но в направляемой Духом церковной медитации снова и снова выносится на свет сознательной веры. Непрерывная целостность этого истолкования недоступна человеческому разуму одного верующего или всей Церкви и открывается лишь Святому Духу. Но то, что для Духа разворачивается как непрерывноцельное, зачастую представляется непостижимо скачкообразным для отдельного человека. И дело не только в том, что Дух не ограничен никакой мерой приближения к истине, никаким ее истолкованием, не только в том, что он может излиться всей своей суве-
94
ренной мощью, поначалу напоминая прорыв всех и всяческих плотин и лишь затем вырисовываясь как некий порядок другой, иначе оформленной и более глубокой непрерывной цельности. Дух может также, на манер generatio aequivoca,«выплескивать» из глубин откровения, являемого во Христе, по видимости новые тайны — тайны, которые сами по себе всегда оставались на виду, но на которые до той поры никто не обращал должного внимания, не догадывался о них и не считал возможными. И, если уж он делает это, то никогда не упускает указать на то место, где эти «новые» вещи смыкаются со старыми, на вулканический кратер, из которого они вырываются, на букву, чьим истолкованием они являются. Но он не терпит, когда новое и свежее в церковной истории сводится, во имя традиции, к старому, к тому, что «и так» было давно известно, хотя и не было высказано явно. Подлинная церковная традиция может лишь весьма условно быть уподоблена (как это любил делать модернизм) органическому или психологическому развертыванию имплицитного в эксплицитное. Равно как применение психологической категории «подсознательного» и «бессознательного» к надприродному процессу, без сомнения, было бы ошибочным. Вернее было бы сказать, что Церкви доверен depositum fidei и что Святой Дух заботится о том, чтобы всякий раз ясно раскрывать перед ней сущностный смысл откровения, «не искажая» (2 Кор 4, 2) Божией истины при передаче ее людям. Вновь возникающие истины не могут противоречить прежним истинам, при этом Дух веет, где хочет, всякий раз открывая все новые и новые страницы божественного откровения. Абсолютно неприемлемым было бы представление о том, что «прогресс дог-
95
мы» все более сужает поле еще не исследованной божественной истины и постепенно ограничивает простор для свободной мысли верующего — так, словно прогресс состоит в том, чтобы, наметив общий абрис учения, затем все глубже и глубже погружаться в детали, пока наконец (наверно, незадолго до Страшного Суда) не будет воздвигнуто готовое здание окончательно «доработанного» и всесторонне «догматизированного» учения. Можно сказать, что истина составляет строгую противоположность этой безутешной картине. Дух пренебрегает всеми человеческими ограничениями. Часто он буквально заливает истинно жаждущих и нищих такой поразительной полнотой утешительной истины, что сама мысль о «доработке» представляется издевательской и кощунственной. Введение «во всю полноту Божества» происходит так, как описал Павел: через преизбыток никогда прежде не виданного, не слыханного и не испытанного (1 Кор 2,9—10), между тем как, согласно Павлу, всякое знание, мнящее себя таковым, обличается как незнание (1 Кор 8, 2). В этом отношении церковное и догматическое знание не составляют исключения. Парадокс всякой христианской истины состоит в том, что дарованное содержание всякий раз бесконечно превосходит форму сосуда, в которую оно изливается. И как новозаветное исполнение, хотя и было заключено в ветхозаветные формы в качестве обетования, все же при своей реализации составило искушение для всякого, кто не был готов выйти за пределы прежде понятого, предполагаемого и чаемого, — точно так же, по аналогии, каждый верующий в Церкви должен быть готов во всякое мгновение сделать скачок от старого и привычного — к сущностно новому (μετανοεῖτε
96
у истока Евангелия), тем проявляя послушание Святому Духу. Оставить непрерывную цельность ведению Духа и не превращать ее в обычную отмирную категорию. Не строить теологическую мысль на автоматических выводах из чего-то данного и достоверного, но делать каждый мысленный шаг лишь прислушавшись и следуя живому Духу Иисуса Христа. Законы логики при этом отнюдь не попираются: всякая логика, присущая той или иной предметной области, в конечном итоге ориентирована на онтологию этой области и несет на себе печать ее особой структуры. Подлинные «выводы» суть прежде всего дары Святого Духа Церкви, т.е. каждый раз раскрытие новых, прежде не предполагаемых богатств, черпаемых из полноты вочеловечившегося Логоса, «в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол 2, 3). Особенно очевидным это становится на примере развертывания мариологических тайн: уже проявившись, они образуют некую чудесную взаимосвязь, но едва ли можно утверждать, что они следуют одна из другой на основе обычных логических рассуждений. Мосты от одной истины к другой наводятся с отвагой, какой требует само наличие и сущность святых тайн и какую только позволяет помыслить и воплотить Святой Дух. Чудесное в данном случае — это неотъемлемое структурное свойство истины, оно составляет противоположность всему явно-бесспорному, всякой безопасной очевидности. По-видимому, мариология представляет собой наивысший пример истолкования жизни Господа Святым Духом: совершаемое третьим Лицом необходимое развертывание той части божественного откровения, которая вторым Лицом по необходимости содержится в полутени.
97
Внезапные потрясения и дары, приносимые Духом — Церкви, подразумеваются явлением истины, которая имеет основополагающее значение для любой эпохи как церковной, так и мировой истории. В ответ на горящие вопросы времени Дух дает ответы в виде афоризма и максимы. Он никогда не облекает их в форму отвлеченного трактата (что скорее свойственно людям), но почти всегда — в форму нового, конкретного, надприродного послания-миссии, создавая святого, который своей жизнью воплощает свышнюю весть, обращенную к данному времени, актуальное толкование Евангелия, дарованный именно этому времени доступ к всевременной истине Христа. Можно ли истолковать жизнь иначе чем с помощью жизни? Святые являют собой насквозь живую традицию, ту же самую, что подразумевается в Писании всякий раз, когда речь заходит о развертывании богатств Христа, о применении его нормы к истории. Миссии святых являются ответом свыше на вопросы, задаваемые снизу, — в такой мере, что нередко они поначалу воздействуют как нечто непонятное, как знаки, которые всегда бывают оспорены от лица всех здравомыслящих людей, — покуда не выйдет на свет «аргумент силы». Бернард Клервосский, Франциск Ассизский и были подобными аргументами, равно как Игнатий Лойола и Тереза из Лизье: все они, подобно огнедышащему вулкану, поднимали раскаленную лаву из глубин откровения, доказывая, вопреки горизонтально направленной традиции, «вертикальное» присутствие живого Господа — здесь и сейчас.
Все эти конкретные нормы, в которых Дух истолковывает для Церкви Слово Бога, подвергаются разнообразным случайностям и опасностям — противо-
98
действию в среде избранных, противодействию в их окружении, мешающем выполнению ими своего поручения, наконец, противодействию в самой Церкви, которая не желает слушать их весть или внимает ей с большим подозрением. Поэтому эти исходящие от Духа нормы никогда не могут применяться независимо от «формальных» норм Писания, традиции, учительной и пастырской должности. Они должны соизмерять себя с этими последними и, если они имеют в себе Дух Божий, не пытаться избежать их суда. И это не нарушает того положения, что формальные нормы в конечном итоге существуют ради пережитых на опыте норм святости. И всему тому, что применяется, дабы испытать и направить святость в Церкви, должно сопутствовать осознание, что само по себе такое возможно лишь в Святом Духе, который, будучи Духом Христа, есть не что иное, как Дух смирения. И с тем же смирением, с каким отдельная личность должна принимать направление от церковной должности, она должна принимать направление от Христова Духа, сияющего в церковной святости. Ибо не должности, но святые будут вместе с Христом на Страшным Суде. Поскольку же один и тот же Святой Дух творит как субъективную, так и объективную святость, то обе они интимным образом взаимно принадлежат друг другу. И лишь дух раздора может попытаться посеять меж ними рознь и отрицать их согласие.
99
4. ИСТОРИЯ ПОД ЗНАКОМ НОРМЫ ХРИСТА
а. Царское величие
Все наши прежние рассуждения касались теологического средоточия истории: вочеловечившегося Бога Иисуса Христа. Мы пытались осознать Христа с точки зрения его собственной историчности, той динамики, с которой он усваивает себе всю остальную историю как предпосылку своей историчности, наконец, в его качестве нормообразующего начала для всей истории. И лишь после прояснения всех этих вопросов становится возможным сделать какие-то значимые выводы об истории, нормируемой, праведно судимой и выправляемой Христом.
История, поскольку она судима праведным судией, предстоит перед ним как субъект: как субъект — отдельная личность, как совокупный субъект — Церковь и, наконец, как субъект — мировая история в целом. Но уже из вышесказанного очевидно, что нельзя без утраты адекватности вести речь об их разделении или противопоставлении. Верующий как таковой, Церковь как таковая живут жизнью своего Господа. Жизнь Христа, вочеловечившегося в членах своего тела, есть вера, надежда, любовь. Церковь в целом не предстоит ему как «иной» субъект, но является его телом, приемлющим жизнь и управление от Святого Духа. Поэтому также и мировая история человечества, сущность которой во всей ее целостности была видоизменена
100
ипостасным единством, не может предстоять Христу в абсолютной независимости. Свое окончательное оправдание и последний смысл она обретает лишь благодаря тому, что находится в сфере жизни и господства того, кому дана «всякая власть на небе и на земле» (Мф 28, 18) и кто лишь ожидает, «доколе враги Его будут положены в подножие ног Его» (Евр 10, 13).
И все же окончательное исполнение истории во Христе не может быть понято таким образом, будто природные естества лишены своего собственного, имманентного эйдоса и обладают таковым только во Христе. Без восприятия дарованной в самый момент творения неотъемлемой сущности как отдельным человеком, так и всей мировой историей в их временно́й протяженности и развитии не может осуществиться ни подлинное вочеловечение Бога, ни его воплощение в истории. Сущностное определение человека состоит не в том, что он есть член тела Христова, равно как сущностное определение мировой истории состоит не в том, что она (сокровенным образом) совпадает с историей Царства Божия. Лишь при изначальном наличии в умозрительной сфере подлинного тварного эйдоса нисхождение Бога на уровень творения может быть осмыслено в качестве кенозиса и лишь тогда Бог может, нисходя, возвести такой эйдос неразрушенным в сокровенность вечной жизни. Иначе просто не может быть, поскольку Сын ни в чем не хочет заменить Отца, но лишь во всем прославить его самого и его творения, чтобы внутренний союз Сына с искупленным человечеством и всей тварью поднял бы их неповторимую самость на недосягаемую высоту.
Царский Сын, о котором многократно возвещали слуги и гонцы царя (Мф 21, 33 сл.), наконец является
101
сам и может держать и вести себя не иначе как сообразно своему царскому сану, совсем не так, как прежние посланцы. Царю незачем заботиться о соблюдении дистанции между собой и своими подданными, она и так повсюду ему сопутствует. Он держится совершенно иначе, чем остальные: раскованно и вместе благосклонно, предоставляя им исполнять их обязанности, сам же оставаясь равным себе в том, что составляет его суть: в своем царском величии. Христианские философы культуры, в особенности протестантские, проглядели глаза, выискивая в словах Иисуса малейшие свидетельства если не утверждающего, то хотя бы мимолетно-одобрительного отношения к культуре, естественной философии, этике или эстетике. Но ничего подобного там нет. Предприятия, которые функционируют самостоятельно, не нуждаются в посещении хозяина. Время, которое Всевышний проводит рядом со своими созданиями, — это ценное, наисвятейшее время, которое и нельзя проводить иначе как в твердом и сосредоточенном состоянии духа (Мф 9, 14сл.). Исполнение истории, великое чудо, которое она имела в виду во всех своих начинаниях и чаяниях, теперь настало и не может иметь никакого иного содержания, кроме себя самого, и не должно быть нарушаемо самодовольством предпраздничных приготовлений, возведением сцены, более или менее удачно проведенными мероприятиями, привлеченной рабочей силой, прессой, возвещающей всему миру о месте и протекании события.
Событийное ядро праздника, т.е. чудо, целиком и полностью зависит от прихода Сына и от его царской сущности. Никто не может сказать, как Сын будет себя вести. Его этикет — в нем самом. Весь его образ
102
действий обличает прирожденного царя, и потому он никому не дает отчета в своих мыслях и делах. Если же они тем не менее бывают явлены, то обретают чеканящую образную силу. Каждую отдельную личность они втягивают в отношение с царской единичностью. Пускай царь есть царь всех и каждого, пускай его посещение затрагивает всех и все встают шпалерами, чтобы увидеть и приветствовать его, все же царь заговорил лишь с одним, вон тем человеком, пригласил его и отличил. Но в этом одном каждый чувствует свое участие, в нем радуются все. Один или несколько выбраны, чтобы уловить нечто от света сущностной уникальности, которая принадлежит к самой сущности царской милости, и участвовать в ней на правах отдельных личностей, — естественно, от имени всех, в качестве посредников между единичностью царя и всеобщностью народа. Их репрезентирующая роль не должна заслонять того, что они по рождению — обычные люди с обычным имманентным миру эйдосом: Симон, сын Ионин, Иоанн, сын Алфеев. Если на них падает отблеск единичности, тем возводя их обновленный эйдос в область всеисполняющей уникальности, то происходит это исключительно вследствие их свободной избранности. Недопустимо понимать эйдос избранного (а избранными в конечном итоге являются все, как отдельные личности, так и народы) как нечто изначально сформированное ввиду последующего избрания (а значит, заранее исходя из этого избрания)12.
12 Это верно несмотря на сказанное выше о том, что само творение определено страстны́м подвигом Искупителя, из чего следует не только предопределение к избранности, но и само сущностное содержание избранных. Если перепрыгнуть через
103
б. Внутреннее напряжение эйдоса и церковные состояния
Возвышение главы возвышает благодаря ее божественной сущности и тварную природу членов: «Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех. И что Он видел и слышал, о том свидетельствует» (Ин 3, 31—32). Однако то в человеке и в истории, что поднимается «снизу», должно подчиниться этому свидетельству и позволить своему имманентному эйдосу расшириться до размеров трансценденции главы. Отсюда возникает то, о чем в общих чертах было сказано уже во «Введении»: переход внутри самого эйдоса. Этот последний может быть либо отмирным эйдосом, устремленным к окончательному осмыслению во Христе, либо эйдосом, который (в Христовых избранниках) преображается в уникальность Христа; при этом, аналогично тому, как это происходит в самом Христе, всемирномножественное целиком превращается в функцию уникального. Это мощное напряжение, которое пронизывает мировой эйдос своей сквозной управляющей силой и которое впервые должно разрешиться в исполнении Божьего Царства, не может быть сглажено, — тем более что оно неизбежно должно быть представлено в само́й зримой структуре Христовой Церкви двумя христианскими состояниями: «при Христе» и «в мире». Оба эти состояния глубочайшим образом взаи-
ступень собственного сущностного содержания твари, то все сведется к некоему «панхристизму», приравнивающему благодатное событие вочеловечения Бога к космологическому процессу гностического толка.
104
мосвязаны, внутриположны друг другу и нераздельны; оба, обретая свой смысл в Христовой любви, взаимно замыкают друг друга. И все же они нетождественны. Здесь их взаимное отношение может быть истолковано лишь в той мере, в какой этого требует историко-теологический подход. Христианская и историческая экзистенция с теологической точки зрения раскладывается по двум полюсам и выступает (1) как экзистенция избранности, поручающая свой эйдос правящему распоряжению Христа, с тем чтобы потом вновь получить его обратно в качестве миссии и поручения по установлению Царства Божия в мире, и (2) как экзистенция, которая принимает свой тварный эйдос, но все время держит его в соотнесении с возвышением и исполнением во Христе. Обе эти экзистенциальные формы, делающие зримым напряжение между природой и сверхприродным, но также и запечатлевающие крест в самой структуре Церкви, не могут расколоть единство христианской экзистенции как веры, любви и надежды. Поскольку же надприродное репрезентирует себя в образе первого состояния, то дух этого первого состояния и его внутренняя форма должны насквозь определять собою всю форму «мирского» состояния (ср. 1 Кор 7, 29—31). В этой communio Духа необходимым образом коммуницируют между собой также и внешние формы состояний: они подчинены функциональному Павлову «закону о членах Христова тела», который, поскольку члены тела Христова суть личности, действует как часть закона о царской брачной любви. Лишь при таком условии обе указанные стороны могут быть описаны по отдельности.
105
в. Эйдос в трансцендентном. Божественное состояние
Рассмотрим сначала трансцендентный аспект, находящий свое выражение в христианском основополагающем акте веры, любви, надежды и репрезентируемый в церковном «состоянии при Христе». Здесь человеческое естество захвачено обаянием уникального. Освобождено от неволи греха и от разрушительного греховного плена в круговороте рождений и смертей. Освобождено ради уз ученически-невестного последования, ради единящей Христовой тайны Креста и Воскресения. О человеке, захваченном таким выбором (целиком или отчасти) можно сказать, что свою форму экзистенции он подчинил экзистенции Христа. Как Христос жил во времени — открыто, доверчиво, без забот и планов, не делая попыток упредить волю Отца, но просто в вере, надежде и любви к Богу и людям — так должен жить и ученик. Он должен оставаться во времени и не пытаться возвыситься над ним. Пребывать в постоянной готовности уловить знаки времени и стоящее за ними послание, а также, избегая титанизма, стремиться сообщить времени свой собственный, самостоятельно изобретенный смысл. Принимать содержание и толкование своей жизни, а равно и своего времени, как ежеминутно получаемый подарок Бога и не пытаться по-прометеевски овладеть всем этим. Знать, что базисная структура экзистенции, в которой только и раскрывается смысл и становится событие, есть разламывающее вскрытие человека навстречу Богу: вера и надежда. Лишь на долю такого отношения выпадает миссия, а милость ниспосылаемой миссии есть всегда исчерпывающий, всегда преизбыточный смысл исторического «теперь». Такое раскрытие составляет жизнь христианина. Восприятие всегда ![]()
106
новой божьей истины не заслонено у него схемами и предрассудками, будь то светскими или духовными: они порождены днем вчерашним и, сколь бы справедливыми ни были они вчера, сегодня они для него невозвратимы и недостаточны. Отношение Церкви и христианина к жизни Сына подобно отношению Сына к воле Отца: оно тоже в известном смысле по-женски восприимчиво. Излияние семени Бога (1 Ин 3, 9) в лоно мира происходит в самом сокровенном из покоев истории. Но принятие и зачатие совершается в крайней заброшенности и оставленности. Отказ от всякого расчета составляет неотъемлемую часть этой «полноты времен». Поэтому «переполнять», «преизбыточествовать», «наделять сверх меры» (περισσεύειν) суть главнейшие слова Павловой теологии. Как раз в средоточии мужского разума, который спонтаннотворчески набрасывает контуры своей работы, сокровенно правит женственная тайна, которую мирская мудрость всегда смутно угадывала в инспирации сокровеннейшей области сердца («внутреннем голосе», музе, божественном Духе). Человеческий дух может распространить свое господство вовне лишь если сделается рабом по отношению к своему внутреннему, но в этом горьком и безропотном служении заключено его достоинство и высшее наслаждение: в самом ядре подневольного житейского разума осуществляется невестное таинство (что глубочайшим образом осознавал Карл Шпиттелер). В области естественного эта тайна яснее всего выступает в тех привилегиях, которыми наделен художник, хотя не следует принимать их слишком уж всерьез; лишь сверхприродное наполняет эту тайну подлинным смыслом, поскольку соединение «по плоти» человечества с актуально присутству-
107
ющим Богом непостижимым образом осуществилось в категориях эроса, во исполнение того, что задолго до того было воспето в Песни песней как состояние невестной обрученности. Церковь, равно как и душа, воспринимающие семя слова и смысла, могут способствовать его росту лишь в женской открытости и готовности, не противясь, не сжимаясь и не препятствуя его проникновению, т. е. вообще не оказывая никакого «мужского» противодействия, но отдаваясь в полной темноте, зачиная в темноте, вынашивая в темноте, ничего в точности не зная о понесенном плоде, которому предстоит рождение. Это незнание, как прообраз нежелания знать, свойственного Сыну, а также особой благодати его вочеловечения, является предпосылкой для всего, что заслуживает называться христианским гнозисом в вере.
Женщина произошла от мужчины, и жена в браке бывает в конечном итоге воспитана и сформирована мужем. Через то, что он ей дает, она становится матерью, зреет изнутри ее тело и дух, достигая своего предназначения. Она является для мужчины физическим, хранительным телом и лоном, он же для нее — лоном духовным, в котором живет и возрастает ее сущностный образ. Христианин и Церковь обретают свой эйдос, пребывающий в Женихе Христе, тем, что принимают в себя и хранят волю Отца — семя его вочеловечившегося Слова. Семя благодати, которая является и семенным началом миссии, а значит — началом формирующим и раскрывающим. Только при выполнении миссии может назреть момент, когда достигается— благодаря благодати воплощенной в жизнь веры — (христологически) идеальная пропорция между требуемым и совершенным и тем самым преодоле- ![]()
108
вается трагедийность, которую исторический человек всегда воспринимает как разрыв между идеальным и реальным. Дарованное — но и достигнутое самим человеком соответствие божественной всемирно-исторической воле — и есть бытийное и действенное ядро мировой истории.
Эта сокровеннейшая тайна не остается без видимого свидетельства. Чем больше человек пытается заменить чем-то эйдос, данный ему благодатью, или смешать его с самоизобретенным эйдосом, тем слабее, бледнее, ничтожнее выглядит то в его жизни, что способно обрести образ. Чем слабее прорастающий мирской образ укоренен в глубинном образе Иисуса Христа, тем больше он превращается в «дерево, сено, солому», которые будут пожраны эсхатологическим огнем Страшного суда (1 Кор 3, 12—13). И напротив, чем с большим самоотвержением человек предстает перед Богом, чем меньше он забегает вперед, иными словами, чем теснее он связан со временем, тем более значимые образы вызревают с течением времени из его экзистенции, образы, которые по своей насыщенности и символичности превосходят все, чего можно достичь с помощью самоформирования и самораскрытия. Так, в пространстве истории нет ничего более значимого и «говорящего», чем жизнь Марии и составляющие ее моменты: встреча с ангелом, затруднения в отношениях с Иосифом, рождение Иисуса, бегство, необходимость скрываться, расставание с Сыном, Кана Галилейская, отказ Иисуса от матери во время проповеди, крест и снятие с креста, Пасха и Пятидесятница, скрытая для мира дальнейшая жизнь у Иоанна. Каждый из этих моментов (большие пробелы в повествовании тоже составляют необходимую часть
109
картины) есть сам по себе концентрированное повествование. Ничто из перечисленного Мария не смогла бы заранее предугадать или представить в мыслях, ни к чему такому она не стремилась в душе и не пыталась сама воплотить. Все эти образы суть чистые дары свыше и лишь в качестве таковых они — наиболее полное и личностное осуществление ее жизни. Данное ей поручение есть не что иное, как абсолютное самоотвержение и покорная безмятежность. Но в руках Бога эта ее готовность превратилась в драгоценный материал, из которого был сформирован совершенно непредвидимый образ.
В этом самоотвержении Марии, которое здесь описано лишь как высший образец для всякой вообще христианской и человеческой позиции по отношению к Богу, нет ни малейшей пассивности и резиньяции. Напротив, оно требует активизации всех сил человека, напряженного отстранения всего, что могло бы затуманить чистое приятие божественной вести и божественной субстанции и такое же чистое их проживание. Тот, кто может вынести это до конца, оказывается подлинным победителем. О «пребывании» постоянно говорит Иоанн (Ин 5, 38; 6, 57; 8, 31.35; 15, 4-5.6.9.10.16; 21, 22; 1 Ин 2, 6.17.24; 3, 14.17.24; 4, 12.13.15.16). Это — пребывание в терпении, не колеблемом никакой нетерпеливостью воли (будь то воля к действию или страданию) или отказом вынести мировой ход вещей, — но лишь растущем и крепнущем благодаря нетерпению упорного ожидания, выраженному возгласом: «Приди!» (Откр 22, 17). Пребывание, которое вбирает в себя все образотворческие силы человека: продуктивность, творческую изобретательность, техническую и художническую
110
гениальность. Лишь под постоянным прессом этого пребывания и эсхатологического упорного ожидания образ человека обретает чеканность и четкий контур. Лишь актуальное присутствие Единственно Необходимого может оправдать и искупить роковое рассеяние во многом, столь для нас горестное. Поэтому такой порядок должен править не только во всякой жизни, исполненной веры, но твердо господствовать и в Церкви. Молящиеся и отрешенные, выбравшие тишину и высоту (о чем так достоверно пишет Райнхольд Шнайдер), держат на своих плечах вершащуюся историю. Они имеют часть в Христовой уникальности, в этой неуловимой, первозданной и безмятежной свободе благородного достоинства, даруемого свыше, — первого, что заключает в себе оправдание всякого вообще достоинства, и последнего, что осталось у нашего лишенного благородства времени. И все же христианин отрешенный и христианин, участвующий в формировании мира, всегда идут рука об руку. Ведь христианин, погружен ли он в молитву или занят активной деятельностью, послан в этот мир вместе с Христом и всегда находится в пути. И это радикально отличает его от сторонящегося истории мистика или монаха азиатского Востока.
Эсхатологическая тоска переродится в безделье (2 Фес 3, 11), если не подчинит себе всю деятельную энергию человека, все его планы и намерения (1 Фес 4,11; 2 Фес 3, 12). И точно так же «пассивная мистика» превращается в квиетизм, если не пройдет испытание действием, вернее, не поставит свои активные силы на службу пассивного самоотречения. Между вершиной исторического процесса, которая в Царстве Христа возносится над всеми человеческими
111
ситуациями, и широким подножьем этой вершины, охватывающим всю полноту этих ситуаций вместе с их историческими, социологическими и психологическими предпосылками, необходимым образом располагается целый континуум состояний. Закон вочеловечения предполагает, что смысл истории не накладывается на нее откуда-то сверху и извне, словно печать (подобный принцип «извне и сверху» означал бы изолированную трактовку христологической истины), но вырастает из нерасторжимой связи судеб Бога и внутренней смысловой ориентации истории. Поэтому теперь необходимо очертить контуры этого имманентного исторического смысла, проистекающего из тварной природы и потому от нее неотделимого, чтобы затем свести его в единое целое со сверхприродным смысловым содержанием.
г. Эйдос в имманентном. Мирское состояние.
Прогресс вертикальный и горизонтальный
Платон усматривал сущность человеческого земного бытия в том напряжении, которое имеется между вечным фоном-основой и временным процессом, протекающим на этом фоне, причем временное исхождение экзистенции на свет осмысляется им как удаление от истока и забвение основы, а протекание экзистенции — как интериоризация и усиление тоски по этой основе. Аристотель углубил платоновскую мифо-историческую трактовку исторической сущности и вместе с тем лишил ее драматизма, введя описываемую сущность в онтологическую структуру напряжений между δύναμιςи ἐνέργεια. Оба подхода показывают, что истолкование экзистенции не может обойтись без понятия
112
прогресса13: для Платона продвижение вперед в земном плане означает изначально исполненный трагизма шаг прочь с небесной родины, при этом, однако, утрачивается понятие естественного «разворачивания-развития»; Аристотель же, напротив, рассматривает процесс реализации потенциального как результат развития изначально «свернутого», но при этом его мало интересует непроясненная суть исходной точки экзистенции.
Без применения категории «прогресса» (шага-вперед, Fort-schritt) невозможно было бы истолковать исторически зависимый от времени образ человека. То, в чем греки, а позднее идеалисты видели «процесс» реализации потенциального, даже антипрогессистские теории способны истолковать лишь радикальным и как бы «сокращенным» образом — как «решение», «прыжок», будь то из царства возможного («эстетического») в царство действительного («этического») (Кьеркегор), или из царства несобственного, характеризующегося (платоническим) забвением бытия, в пространство собственного, т.е. в открытость бытия (Хайдеггер). В основе этого всегда наличествует «шаг», «поступь». Само понятие «смысла» сводится к «путешествию», «стремлению», «перемещению» (др.-в.-нем. sinnan). Человек обретает о-пыт лишь в пути14. Подобный корень в индогерм. sent дал лат. sent-
13 Необходимо заметить, что в немецком языке слово Fortschritt, переводимое как «прогресс», имеет внутреннюю форму: «шаг вперед». Таким образом, в данном контексте понятие прогресса ассоциируется с необходимостью «принять решение», «сделать решительный шаг». (Прим, пер.)
14 Некоторое звуковое сходство корней в этих двух русских словах, к сожалению, лишь внешнее. В немецком параллель этимологическая: Fahrt (путешествие) — erfahren (узнавать, испытывать). (Прим, пер.)
113
ire «чувствовать, чуять» и фр. sentier «тропинка, стезя», которую, чтобы двигаться по ней, следует «унюхать, учуять». Вопрос состоит лишь в том, чем же является такой опытно познанный смысл? Путь-бег когда-нибудь прекращается, значит ли это, что он заведомо ведет к смерти? Если же смысл бесконечен (а это именно так), каким же образом этот конечный путь- бег может заключать в себе бесконечный смысл? Последний смысл, заложенный в беге времени, остается непроясненным как для отдельного человека, так и для истории в целом. Если этот бег понять как концентрированное выражение аристотелевского раз-вития (подобно раскручиванию свернутой пружины, дающему выход силе и действию), то указанная непроясненность раскрывается снова по-другому: осуществление — это всегда смысл (как развитие цветка из корня, плода из цветка и т.д.), однако оно всегда сопряжено с утратой потенциальной силы, источник которой теперь разряжен, исчерпан и мертв. И это относится ко всему: к отдельному человеку, к народу и культуре.
Эта непроясненность природы прогресса не позволила в дохристианскую эпоху развернуть историческую концепцию, которая решилась бы однозначно истолковать бег времени в терминах прогресса. Что касается платоновского учения о коренной связи между отпадением и последующим приближением к (небесному) источнику, то оно, скорее, является философским наследованием мифологических и религиозно-политических представлений о бытии, зародившихся в высоких культурах раннего периода. Сверху вниз на землю нисходит спасение (закрепляемое союзом с богом данного народа или встречей бога и народного правителя), позволяющее избежать пле-
114
на судьбы, материи или царства смерти и обеспечить себе (какими угодно магическими и сомнительными средствами) прочное место в царстве света. Этот «шаг вперед» (прогресс) с земли на небо, от смертного распада к родству с богами, это (столь потрясшее древние народы) распрямление образа человека, поднявшегося из горизонтального животного состояния к вышнему эфиру — все это составляло основное содержание опыта высоких культур двух или трех тысячелетий до прихода Христа. Земные победы и завоевания были приурочены к тем или иным местам на земле лишь как знаки проявления божественной милости.
Именно в этот период прорыва, крайне важный для всего человечества и его природного земного пути (Ясперс называет его по этой причине осевым временем всемирной истории: все, происходившее ранее, лежит ниже горизонта этого прорыва, все более позднее является его следствием), укладывается в библейский опыт-познание. Этот опыт впервые опрокидывает вертикальное толкование истории, придавая ему горизонтальное направление; тем самым полюс Бога, прежде находившийся «вверху», существенным образом переносится во временно́е будущее. Теперь люди ждут Бога в истории, он придет и будет вершить суд на земле, и все непроясненное и сомнительное станет несомненным. Вся динамика истории еврейского народа устремлена к будущему, заключающему в себе абсолют. Во всех своих перипетиях, также и в христианскую эпоху, эта история сохраняет нечто от безусловности. За почти смехотворно короткий срок (менее двух тысяч лет) Яхве поднял этот народ из плоскости общего переднеазиатского мифа до кульминационной мировой идеи — вочеловечения Сына Божия. Все
115
категории общей религиозной философии и истории вновь востребованы в Израиле, в очищенном и развитом виде. И при этом все они соотнесены с уникальным, которое их полностью преображает, кладет на них печать смысла, который по существу является божественным и начинает все менее и менее нравиться одному из партнеров по союзу-завету — человеку. Израиль не сам делает шаги по ступеням прогресса, его приходится тащить по ним за волосы, против его воли, преодолевая все большее сопротивление. На каждой ступени он снова и снова пасует перед Богом и в итоге почти полностью лишается своей субстанции, чтобы лишь в качестве «остатка» достичь наконец обетованной земли Христа. Те приговоры, имеющие характер квинтэссенции, которые выносит Господь как последний пророк Отца, лишь подтверждают то, что стало реальностью уже при Иеремии: избранный отвержен. И лишь когда Христу как единственному избраннику Отца пришлось понести всю тяжесть человеческой отверженности, он снова резко — и уже окончательно — «выворачивает руль» и освобождает сначала неизбранные языческие народы и затем — в эсхатологической перспективе — первоизбранный священный стебель (Рим 9—11). Ибо к нему раз и навсегда была привита священная история, и без него Новый Завет невозможен и непонятен.
Ступени Ветхого Завета, ведущие от Авраамовой веры к Закону Моисея, к харизматическому судье, царю, пророку, суть ступени интериоризации и усвоения человеком божественного откровения. Поскольку Бог неуклонно идет по этому пути, то человек благодатно принуждается исполнить и усвоить последнюю истину, вписанную в историю Израиля.
116
Если он не хочет делать этого своей свободной волей, то воспитательные воздействия — суд, изгнание, отвержение — подталкивают его к этому. Грех, который первоначально был внешним, искупаемым по закону пре-ступлением, теперь становится внутренне переживаемым падением в бездну, которое в конечном итоге может быть искуплено только «рабом Божиим». В пророке, равно как в авторе и герое псалмов, Дух Божий приучается жить вместе с человеком (что особенно подчеркивали Отцы Церкви). Слово Божие, обращенное к человеку, направляется пророком — т.е. человеком (пусть не обычным, а облеченным особой миссией) — в гущу таких же людей, связанных нравственными, политическими и социальными узами; оно есть одновременно слово Божие и человеческое. И человеческая молитва, которая в псалме восходит к Богу и сначала воспринимается как ответ человека Богу, теперь делается столь глубокой и непреложной, что может стать одновременно словом самого Бога. Рамки ипостасного союза, таким образом, заданы. В облике раба Божия и, более конкретно, в облике Иова почти совсем отчетливо проступают черты Распятого. С высоты эпохи пророков можно оглянуться на эпоху обретения обетованной земли: ностальгически вспомнить «дни юности» (Ос 2, 15), «когда Израиль был юн» (Ос 11, 1) — но и прежние грехи (Пс 78; 105; 106), за которые благочестивому остается лишь просить у Бога совокупного прощения (Вар 1, 2; Неем 1, 5 сл.; Дан 9). Снизу вверх, в исторически стадиальном молитвенном путе-шествии к Священному Граду (под пение псалмов, знаменующих ступени восхождения), под водительством действующего изнутри Святого Духа, святой народ оказывается на путях, в конце
117
которых угадывается Кумран, и далее — Елизавета, Иоанн, Иосиф, Мария и их Сын.
История Израиля, будучи по существу предысторией Христа, является неповторимой, как сам Христос. Эта предыстория нужна ему, чтобы в подлинном смысле обрести историчность. Но он может включить историю в свою собственную экзистенцию лишь в той мере, в какой она сделается священной историей — пусть даже в ней действует достаточно большое число грешников. Доказательство божественности миссии Христа — поскольку он одновременно является Богом и человеком — может быть выстроено как вертикально, так и горизонтально. Вертикально, так как он сам, его слово и его земное существование достаточны, чтобы дать расслышать в его учении голос Отца: верующий различает в одном слове два свидетельства (Ин 8, 17—18). Однако «скачок», который закоснелый рассудок не хочет различать в христиански-новом, может также быть истолкован в горизонтальной плоскости — как завершение длинной, со ступени на ступень «прыгающей» истории. Тот, кто хочет быть иудеем и сыном Авраама, логически должен совершить прыжок ко Христу. Обетование и исполнение предстоят друг другу, как части исторического диптиха, доступные всякому человеку для чтения и сравнения и включающие два основных элемента природы и истории как таковых: «полярность и возвышение» (Гете). Полярность мира (всех дел Всевышнего — «по два» Сир 33, 14) — и головокружительное возвышение мира ко Христу. И одновременно это возвышение — благодаря искусству мирового Архитектора — может быть истолковано в образе истории.
118
д. История спасения в профанной истории
История Израиля, насчитывающая всего несколько столетий, на всем своем протяжении является двухслойной. Над уровнем профанного развития, в продолжение которого этот народ, зажатый между огромными государствами, совершает восхождение от мистически приуроченного времени к греческому — а позднее общеэллинскому — универсальному разуму (который ведь не просто является в последней фазе Библии, но решительным образом вступает в ней в свои права), происходит совершенно другое, крутое восхождение, которое ведет к уникальности Христа. Но если мы рассматриваем приход Христа как наступление «полноты времен» в системе истории спасения, то возникает трудный и для теологии весьма важный по своим последствиям вопрос: имеет ли другая, профанная история, протекающая в нижнем слое параллельно Израилевой, — имеет ли она также какое бы то ни было отношение к этой исторически достигнутой «полноте»? Для Гегеля, признававшего только одну историю, являющуюся одновременно профанной и сакральной, утвердительный ответ на этот вопрос был бы очевиден. Равно как и для тех христианских теологов истории, которые вслед за Иустином и Евсевием (Praeparatio Evangelica) с содержательной точки зрения допускали конвергенцию времени язычников и времени иудеев в общем процессе становления человека. Но не вкладывается ли тем самым в историю откровения нечто такое, чего там нет, что явным образом противоречит положению о том, что (циклическое) время язычников не правится по Христу. Современная протестантская теология истории приложила немало усилий, чтобы восстановить трансцендент-
119
ность процесса становления человека во всем его изначальном библейском величии, освобождая его от всех профанно-исторических связей. «Наличие связи между историей спасения и мировой историей недоказуемо во всемирно-историческом плане и не выводимо из веры. Фактическая встреча “августианского Рима” с “Христом” сама по себе еще не исключает для верующего разума того, что Бог может открыть себя за тысячу лет прежде или через две тысячи лет после этого: в наполеоновской Европе, сталинской России или гитлеровской Германии — если Богу так угодно. Поскольку же события истории спасения — как изначально, так и в конечном итоге — не имеют никакого касательства к царствам, нациям и народам, но только к спасению каждой неповторимой души, то ниоткуда не вытекает, что христианству нельзя быть совершенно безразличным ко всем историческим различиям» (Karl Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeshehen).
В принципе, из сказанного можно было бы вывести иное представление о связи между профанной историей и историей спасения, правда, лишь в качестве гипотезы, нуждающейся в более тщательной проверке, для которой здесь нет места. Речь, однако, надо вести не о сопоставлении и гармонизации двух отдельных величин: библейского и всемирно-исторического событийного ряда (прогресса), из чего, судя по всему, исходят все историко-теологические построения протестантского типа. Речь идет о собственно теологическом, собственно библейском утверждении, что «воспитание человеческого рода», которое Бог первоначально предпринял на примере Израиля, при всей своей особой характерности, использует всеобщее «развитие» как транспортное средство, двигающееся,
120
в буквальном смысле, по восходящей линии, причем использует для достижения своей собственной, совсем особой цели. Это относится не только к «форме откровения», которое в «мифологический» период жизни еврейского народа принимало соответствующие, понятные для людей формы (можно вспомнить об откровениях в эпоху патриархов или во времена скитаний в пустыне), ставшие почти «рациональными» в более поздние, эллинистические времена. Данное утверждение верно и в том смысле, что прогресс откровения по сути состоит во внутреннем усвоении изначально и всегда актуально присутствующего Бога, так что продвижение вперед свойственно скорее человеку, чем Богу.
Восходящий свет над Израилем и его усугубляющимися несчастьями лишь углубляет осознание его представительской функции среди прочих народов: для Израиля подверженность Божиему суду находится в диалектическом единстве с обретением спасения. Может ли для других «народов», призванных к суду пророческим словом Бога, дело обстоять иначе? Не должны ли все эти «народы» вновь быть приведены к Авраамову имени и к родству с ним? И не остается ли всемирная история — несмотря на все разобщения — все той же историей Авраамова рода? А именно — как подчеркнет Павел — историей рода явно и скрыто верующих? Причем не только для отдельных верующих как личностей, но и для народов как таковых, которые, начиная от Книги Бытия и кончая Откровением, фигурируют в истории Спасения как качественно определенные величины. «Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской, и Филистимлян — из Кафтора, и Арамлян — из Кира?» (Ам 9, 7).
121
Из всего этого, конечно, невозможно сконструировать теолого-историческую концепцию в стиле Гегеля, который рассматривает стадии развития профанной истории в одной плоскости со ступенями ветхозаветной священной истории и тем самым помещает свою синтезированную метафизику истории по ту сторону философии и теологии. Здесь можно с осторожностью утверждать лишь то, что кайрос становления человека, к которому (кайросу) явным образом сводится история Израиля, является кайросом не только для Израиля, но и для всех «народов», и что Израиль при этом обеспечивает конечную неразрывность истории спасения и мировой истории, хотя в плоскости истории народов эта неразрывность скрыта вплоть до Страшного суда. Когда Бог до конца использует «транспортное средство» исторического прогресса (шагания-вперед) (вместе со всей его непроясненностью), чтобы достичь своей абсолютно иной [чем у исторического прогресса] и абсолютно ясной цели, тогда эта «повозка» (используя индийское выражение) как целое будет отличена тем, что Бог воспользовался ею для своих нужд, а именно, для доставки благодати. Дальше теология истории в этом направлении продвинуться не может. Противоречие этой мысли с понятием «осевого времени» истории как времени решающего духовного прорыва, произошедшего до Христа, разворачивается уже совсем в другой плоскости, и здесь любой полученный вывод не сможет превзойти даже самую слабую из своих предпосылок.
е. Полнота и прогресс
Христианская эпоха определяется событием Христа: полнота достигнута, вера в ошеломлении останавли-
122
вается перед чудом, вознося ему поклонение. Само время кажется остановившимся, наступает «безмолвие на небе как бы на полчаса» (Откр 8, 1). Тысяча лет и более посвящается созерцанию; христология, учение о троичности полностью поглощают верующую мысль. То, что принес Христос (самого себя), является абсолютным, окончательным и никоим образом не может быть преодолено временем. Христос, полнота, пришел в конце времен, непосредственно перед обращением в вечную жизнь, и все предшествующее начинает восприниматься как захваченное единым потоком прогресса, устремленным ко Христу. Поскольку что касается древнейших времен (Библия практически играет роль книги профанной мировой истории), то эта история и история спасения почти полностью совпадают, и шесть «эпох» человечества в перспективе седьмой, христианской, предстают как ветхозаветные, населенные «по периферии» различными «народами». В августиновом «Граде Божием» на мгновение разверзается бездна между профанной историей и историей спасения, чтобы затем снова уступить место исходной гармонии единой культуры средневековья. Даже попытка прорыва и преодоления зона Христа, принадлежащая Иоахиму Флорскому, который провозгласил эон Святого Духа, еще только долженствующий вступить в силу, — даже эта попытка, несмотря на все ее побуждающее воздействие, остается лишь эпизодом. Церковной мысли не хватало еще исторического пространства для подобных выводов.
Лишь многократные сломы, которыми изобилует новое время, впервые подорвали этот первоначальный наивный синтез — в том, что касается профанно-исторического измерения и его природы. С одной стороны,
123
в древнейшей истории человечества обнаружились такие временные горизонты, что основной христологический факт применительно к ним еще больше закрепился в своем завершающем качестве. С другой — история в высоком смысле начинается лишь после прорыва, завершившего последние предхристианские тысячелетия. В этом смысле Христос предстает как начало и основание решающего духовного сражения, которое должно исполнить историю, и тогда короткая история Израиля начинает выглядеть почти как частная семейная хроника. И все же: если иудейский порыв устремлен в будущее человечества, где должно состояться мессианское чудо — прыжок из царства необходимости в царство свободы, то для христиан эта свобода всегда непосредственно доступна, заключена в непревосходимой полноте, и, какой бы то ни было, прогресс человечества может осуществляться лишь в присутствии (παρουσία)последнего и абсолютного, т.е. эсхатона истории, который никаким восхождением невозможно аппроксимировать, тем более — достичь или превзойти. Всякое новое духовное завоевание должно соизмерять себя с этим внутриисторическим абсолютом, который поэтому все сильнее выбивается из мировой и культурной истории как некий вызов, и не только незримо-сущностно, но также зримо и наглядно «все притягивает к себе», диктуя (в силу своего превосходства) темы мировой истории и побуждая (в силу своей абсолютности) к выбору между последним «да» и последним «нет». Именно поэтому нельзя вести речь о конвергенции и окончательной гармонизации мировой истории и истории Царства Божия. Скорее, дело обстоит по притче: пшеница и плевелы растут одновременно, поскольку растущая моральная ответ-
124
ственность исторического и культурного человека перед самим собой, равно как растущая ответственность верующих за наследие Христа перед Богом ведут ко все более острой необходимости решающего выбора.
В действительности, само представление об эволюционном развитии проникло в теологию в XIX веке в ходе общего развития секулярной эволюционистской мысли — как следствие церковно-ортодоксальной рецепции наследия Иоахима. Сегодня принято говорить о догматическом развитии, при этом указывают на то, что Церковь вправе — посредством созерцательного размышления и под просветительным водительством Святого Духа — предпринять развертывание переданных ей через откровение тайных «сокровищ премудрости и ведения» (Кол 2, 3). Нужно лишь заметить, что этот прогресс теперь уже не является собственно (объективным) откровением, как обстояло дело в Ветхом Завете. Если тогда логическое продвижение к цели было стадиальным, то теперь, когда абсолютная полнота уже достигнута, истолкование может нескончаемым потоком двигаться по кругу, свободно и неподвластно принуждению, заложенному в развитии как таковом. В ней есть нечто от спокойно-отрешенной свободы Иисуса по отношению к традиции, которую он исполняет, от свободы Святого Духа по отношению к ситуативному содержанию мировой истории. Вполне может быть (как показал Вальтер Диркс в своих глубоких сочинениях), что даруемые Святым Духом кайросы церковной истории — как, скажем, явление великого святого или другое важное духовное послание — содержат (упреждающие) ответы на настоятельные вопросы мировой истории. Отсюда, однако, совершенно нельзя вывести никакой систематической
125
взаимосвязи, никакой жесткой зависимости между истолкованием откровения и самоистолкованием человечества на протяжении его истории. Хотя неисчерпаемая сокровищница христианской истины всегда находится под рукой, всегда открыта, чтобы выверять по ней свое самоистолкование и прибегать к ней для принятия верных решений, все же самую существенную роль играет жизнь Церкви и ее Главы, осиянного славой, и эта жизнь совершается выше плоскости прогресса.
Конечно, это все же не отделяет судьбу человечества от христианской истины. Именно под солнцем Абсолюта как идеи и истины христианской любви процветает все, что человек может исторически развернуть в силу заложенных в нем возможностей. Эта истина внутренне одушевляет исторически развиваемое или, где это невозможно, правильным образом наружно его поляризует. Трансцендирующее историю содержание и ядро Церкви есть то последнее, что Творец даровал человеческой истории, чтобы изнутри привести ее к самоосуществлению. Образ «полярности и возрастания», который запечатлен в диптихе объективного откровения, объединяющем «прогресс» (Ветхий Завет) и «всепревосходящую полноту» (Новый Завет), — этот образ становится для истории основополагающим и развертывается из своего средоточия — вовне, причем развертывается в аналогических формах, напряженно соотнесенных с этим средоточием. Чтобы усмотреть этот образ в его подлинном виде, необходимо уяснить центральный тезис Павловой теологии истории: исполнение во Христе Божьего завета с Израилем есть одновременно снятие особого отношения к Израилю ради всех остальных народов,
126
которые прежде были «чужды заветов обетования» (Еф 2, 12), отныне же, через вочеловечение и крест, «стали близки» (Еф 2, 13). «Ограда», отделяющая профанную историю от истории спасения, кончается там, где Слово уже не звучит пророчески с неба, но становится плотью, т.е. человеком (этот момент продуман Гегелем, быть может, с наибольшей глубиной). Ибо, когда Бог в своей абсолютной уникальности не желает для выражения себя самого пользоваться никаким другим языком, кроме лучшего своего творения, человека, — тогда не один какой-то народ, но все человечество целиком становится затронутым этой речью. И точно так же человечество может лишь как единое целое быть искуплено и освобождено Богом «в Его плоти» и «в любви» (Еф 3, 12—18). Исполнение (ветхозаветной) истории с необходимостью свидетельствует о ее снятии ради народов, окружающих Израиль, — снятии, которое поэтому было в ней изначально подразумеваемым, чаемым и изнутри направляющим. «Разрушение ограды» — это снятие разницы между обособленной («исторической») историей спасения и общей профанной историей: после Христа вся история становится принципиально «сакральной», и не в последнюю очередь — благодаря свидетельствующему присутствию Христовой Церкви внутри единой и всеобщей мировой истории. Таким образом, это основополагающее соотношение содержит внутри себя еще и другое, нашедшее выражение у Павла в том, что он объединил две веры, иудейскую и языческую, в личности Авраама, еще не связанного никаким законом (Рим 4). Зримый образ истории спасения, к которому Павел относит также «Христа по плоти», теперь снят смертью и воскресением Христа; «древнее прошло,
127
теперь все новое» (2 Кор 5,16.17). То, что с земной точки зрения виделось поразительной отвагой — бросить языческий мир, непричастный (иудейской) традиции, в полноту времен (это и составляло предмет спора апостолов и первого собора) — заслуживало риска, поскольку после этого изменился весь исторический фон: теперь существует лишь одна мировая история и ее трансцендентно-имманентное исполнение в Господе. А потому становится возможным добавить к двум первым отношениям третье, и для этого имеется по меньшей мере одно основание и оправдание, которое находим в Рим 8.
То, что в древней философии и мистике всегда рассматривалось как место изгнания и рабства, — материя, от которой дух должен был освободиться и оторваться, эта самая материя приобретает в глазах нашего времени совсем другой образ. Она становится иерархически упорядоченным царством последовательных, постепенно развивающихся (неизвестным нам пока способом) жизненных форм, внутренне ориентированных на некую высшую форму, человека, который (онтогенетически) компактно сочетает в себе все природные формы, увенчивает их собой и трансцендирует. Царь творения не является чужим в своем собственном царстве, он не просто посажен на царство свыше, — он есть одновременно и тот, кто поднялся по восходящим ступеням предваряющих форм и тем самым впервые связал между собой в бытийном плане все эти формы, открыв для них возможность взаимного сообщения. Теперь мы вправе сказать: природа, стоящая ниже человека, и естественная история относятся к человеку и, соответственно, к истории человечества, аналогично тому, как Ветхий Завет относится
128
к Новому Завету. В обоих случаях мы видим ряд шагов, уводящих от прежнего состояния, и в конечном итоге — прыжок в новое состояние. И в обоих случаях динамика прогресса в идеальном плане питается той энергией, которую еще только предстоит достигнуть. Но поскольку человек, первый «Адам от земли», изначально создан ради второго Адама, то мир и человек совокупно могут быть радикальным образом охвачены единым божественным планом спасения (Рим 8, 19—22), который зародился не только в борьбе Израиля с Богом Отцом за Израиль, не только в борьбе (πάλη означает гимнастическую борьбу, Еф 6, 12) Церкви с Богом Сыном за Церковь, но в борьбе всей истории человечества и даже космической истории — при соратничестве и со-воздыхании Святого Духа (Рим 8, 23.26). И эта борьба космоса за обретение Богаиборьба Бога за обретение космоса (см. Exerzitienbuch Nr 236) никогда не обрела бы своего величия, если бы в ней, с крайним имманентным напряжением, не стремилась родиться на свет форма, которая превосходит собою все космическое. В истории есть имманентный эйдос, однако Христос, спустись в ад и будучи затем вознесен на небо, взял его с собой, и история сможет снова обнаружить его там только в конце времен.
ж. Рыцарь Апокалипсиса. Господь и его Невеста
Расширение истории человечества до размеров космической истории (что соответствует не только представлениям современных естественных наук и принципам диалектического материализма, но полностью совпадает с ви́дением Павла и Тайнозрителя Апокалипсиса) неизбежно сопровождается вступлением в игру новых
129
сил и расширением поля деятельности этих сил. Если материализм выводит развитие человечества из определяющих его социальных и экономических условий, то Новый Завет знает такие космические инстанции, влияние которых на историю человечества могло бы оказаться вполне зримым кошмаром, если бы не чудодейственный «палладиум», помогающий в борьбе с ними: живая вера в победу Христа. Павел обозначает эти инстанции такими словами, как δινάμεις(«власти»), ἐξονσίαι(«начальства», «сферы власти»), ἀρχαί («начала господства») и, возможно, στοιχεῖα («стихии»). Он приписывает им бытие, родственное бытию ангелов, отчасти идентичное или сравнимое с этим последним. Эти власти, которые, наряду с другими факторами, являются движущими силами мировой истории, слишком глубоко укоренены в новозаветном мышлении о спасении, чтобы можно было объявить их всего лишь исторически обусловленными. Сколь прочно земное бытие пронизано этими потенциями, столь непостижимой остается для нас их сущность, состоящая в колебаниях между личной и безличной духовной силой, между добрым, злым — и безразличным, между мирскими, материальными — и надмирными, в известном смысле, нематериальными формами бытия (ср. 1 Кор 15, 24; Еф 1, 21; 3, 10; 6, 12; Кол 2, 10.15; 1 Петр 3, 22). Абсолютно ясным остается лишь возвещение, что в нашем эоне некоторые области мира определены быть посредующими для этих властей, которые в конце времен будут целиком «выведены из строя», «низложены» (καταργεῖν).
Церковь вместе со всеми своими членами стоит на пороге нового зона, поэтому в своем сущностном ядре она неподвластна гнетущему давлению со стороны
130
космических властей. Однако, поскольку она полностью разделяет с миром его историческую судьбу, она не может уйти от со-страдания миру в его бедствиях. Более того, поскольку она есть место, где совершается выбор в пользу Бога, то ярость «властей века сего» (1 Кор 2, 6) направлена непосредственно против нее. Однако вера освобождает от рабства этим властям. Христианин во всяком случае освобождается от «мудрости властей века сего», «низложенных» Церковью, освобождается от власти дьявола (Евр 2, 14) и смерти (2 Тим 1, 10), этого «последнего врага» (1 Кор 15, 26), который, хотя и продолжает пребывать в мире, но для Христа и для христиан уже не имеет силы (Рим 6, 8— 11). Война «против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего» (Еф 6, 12), которую мы все же вынуждены вести, так как она нам объявлена (Откр 12, 17), есть война с уже побежденным и низложенным противником, поскольку вера должна устоять по самой своей сути. Точно так же в Апокалипсисе падение Вавилона объявлено как свершившееся (Откр 14, 8) прежде, чем он вообще появился и проявил свою силу (Откр 17). И тем не менее это — совершенно реальная борьба, потому что она ведется собственно за веру и в ней принимает личное участие Агнец со своими «зваными, избранными и верными» (Откр 17, 14). Это — «брань», в которой враг всех человеческих сил терпит поражение (Еф 6, 12—13) и при этом приобретает масштаб противника Бога, поскольку вызывает на бой его самого. Но человек также вынужден принимать участие в этой сверхчеловеческой брани не на жизнь, а на смерть (см. уже кумранский «Устав войны»), и то «всеоружие», в которое ему предложено было облечься, — Божие, ибо сам Бог воевал в
131
нем еще в Ветхом завете (Еф 6, 11 = Прем 5, 17 сл.; ср. Пс 34, 1 сл., Ис 59, 17 сл. и т. д.)· Уже тогда Божие слово «несло острый меч», ибо «сошло с небес... на средину погибельной земли всемогущее слово Твое, как грозный воин... оно касалось неба и ходило по земле» (Прем 18, 14—16). На этом месте даже теология истории начинает касаться своим теменем неба, и там, где человек, сколь бы отважен он ни был, теряет дар речи, Апокалипсис продолжает говорить и рассказывает о том, что звери дотягиваются до неба своими головами, ибо им было «дано... вести войну со святыми и победить их» (Откр 13, 7) и как они, бесчисленные, «как песок морской», «окружили стан святых и город возлюбленный» (20, 7—8). В самой средине неба эта космическая битва обретает реальность непосредственного присутствия, и все существа, пав перед Невидимым, воспевают победную песнь столь мощно, что каждая строка книги буквально сотрясается от этой происходящей на наших глазах битвы.
В картине Апокалипсиса Павловы «начала» предстают пока лишь как восстающие против Бога «власти», тогда как позитивные ангельские силы (Михаила и его воинства) являются, в этой ситуации, в виде четырех рыцарей (Откр 6, 1—8) и могут быть истолкованы как теологические начала истории. Иначе говоря, как те принципы, которые Бог привнес в историю в качестве ответа на мировой грех. Сами по себе они отнюдь не являются «злыми», но, скорее, указывают пути, на которых Бог может овладеть отпавшей историей и вновь привести ее к себе. Эти принципы суть: христианская вера, которая, будучи изначально победной, пронизывает собою всю историческую экзистенцию; затем — меч, или ἀγών [битва], назначение
132
которого — решающий выбор среди хаоса и общей расслабленности (этот меч столь необходим, что даже Логос изображается скачущим на битву на коне с мечом, исходящим из уст, Откр 19, 15, или с серпом для жатвы, 14, 14); далее — справедливость в скудости и нужде (т.е. то, ради чего производились всяческие попытки улучшения мирового порядка, все экономические и социальные нововведения) и наконец — смерть, за спиной у которой зияет ад, т.е. держава смерти как выражение власти судьбы: наследственного греха зачатия и рождения.
В последовательной смене видений возникают верующие, которым обещана победа и которые поэтому превозмогают все власти мировой истории, однако они пребывают с этими властями в борьбе, которая глубоко внедрилась в самую сердцевину Церкви, о чем свидетельствуют в Апокалипсисе семь посланий различным церквам. И более: то, что было представлено как внешняя борьба между Церковью и зверьми, в конце оказывается лишь наружным отзвуком куда более важной, да собственно, единственной решающей битвы, происходящей в лоне Церкви. Это — битва за последнюю истину истории. Любовная борьба Господа со своей Невестой, Церковью, чей пророческий образ рисует не только Ис 60, но и Иез 16: здесь неверный Иерусалим умаляется Господом еще сильнее, чем сестры Самарии и Содома, которые, согласно Отцам Церкви, являются символами ереси и язычества, обступающих Церковь с обеих сторон. Суд начинается с дома Божия (1 Петр 4, 17). Сын Человеческий, «облеченный в подир и по персям опоясанный золотым поясом. Голова Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его — как пламень огненный; и ноги
133
Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его — как шум вод многих... и лице Его — как солнце, сияющее в силе своей» (Откр 1, 13—16). Царь славы, исполненный любви, из уст которого выходит двуострый меч, в самом средоточии истории непрерывно правит суд над своею Невестой. Он то прославляет, утешает и укрепляет ее, то мягко увещевает, призывая к терпению, то выказывает свое разочарование тем, что она отпала от первоначальной любви, то предостерегает ее, грозит, воздымает меч, показывая, сколь невыносимо для него ее состояние. На виду у всего мира он пригвождает ее к позорному столбу, [так обращаясь к одному из ее ангелов]: «Знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв... не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр 3, 1.17). Но внутренний смысл этого суда все же — любовь. Лаодикийская церковь, полностью падшая, слышит такие слова: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю» (3, 19). Если мировая история есть, в глубочайшем смысле, мировой суд, то суд этот совершается не над дальним и незнающим. Это — суд Жениха над хвалимой Невестой.
Если так, то «брань» между двумя городами, Иерусалимом и Вавилоном, не только составляет теологическое ядро истории, — это гораздо более глубинная, непримиримая, чреватая последним выбором битва. «Вавилон в нас» есть то, что непременно должно быть побеждено. И как Сын Человеческий, если рассматривать его в божественном плане, есть не один человек из многих, но Человек как таковой, ради которого существуют все остальные люди, его братья, — так и Церковь не есть просто сообщество среди других сообществ, повинующееся тем же законам, что и они.
134
И грех христиан, который имеет совершенно особую остроту, несравним со множеством остальных грехов. И точно так же святость Церкви, обретенная посредством Крещения, Евхаристии, исполнения христианской миссии, через вселение в сердца Божия Слова, очень мало походит на другие виды святости. То, что совершается в Церкви, ближе всего подходит к уникальности Христа; через Невесту, через ее мистическое тело оно приобщается ко всеобщему прообразу. Церковь эта зиждется на учениках, но ведь и Иуда является апостолом. Все в мире, что находится вне Церкви, относится к ее внутреннему, как образная ссылка, как знак альтерации к основному тону, как аналогия. Попытка понять это является experimentum crucis теологии истории, которая должна во внутренней кульминации всеобщего и сущностно-закономерного (о чем мы говорили вначале) усмотреть универсальность уникального, которое является таковым благодаря временной актуализации Бога в его несравнимости ни с чем. И поскольку эта актуализация происходит в интимной форме вочеловечения, Церковь разделяет эту абсолютную уникальность, а отношения Христа и Церкви становятся — в различенном единстве — мерой всех относительных уникальностей разнообразных исторических ситуаций, мерой близости людей к Богу — или удаленности от него. В различенном — потому что удаленность Христа, висящего на кресте, есть высочайшее откровение любви, а удаленность греховных христиан впервые полностью раскрывает мистерию вины. Но все же в единстве — так как именно в своих страстях Искупитель оборачивает свой пурпурный плащ любви и позора вокруг своего тела — своей Невесты, и вбирает ее даль — в свою.
135
Таким образом, вновь возникает вопрос об адекватном теологическом субъекте истории. Это — Христос и Церковь, а также — через них, как их интегральная составляющая — всеобщее и эпохальное сознание человечества (на фоне космических «властей»), равно как личное сознание каждого индивида. В своей явной либо невыраженной вере это личное сознание (не отделимое адекватным образом от сознания эпохи) приобретает часть в сознании церкви, которая всегда пребывает рядом со своим Господом и Главой — в непрестанном послушании и соприкосновении.
От него и через его Духа она узнает то, что ей определено знать в сем веке, чтобы следовать своим путем. Это знание одновременно — и преизбыток света, который она едва может перенести, и тьма, т.е. затенение веры в ветхом зоне и в плоскости становления человека. «Власти» не достигают центрального знания, иначе не случилось бы, что они не выдержали и неправильно истолковали решающий кайрос (1 Кор 2, 8). Всеобъемлющее знание и всеохватное деяние свойственно одному лишь Господу истории, которому — как Богу и Богочеловеку — открыты все индивидуальные сознания, «ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно... судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» (Евр 4, 12—13). Но как человек он прожил и пережил определенную человеческую историю. Он познал ее и несет ее в себе, ибо «подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр 4, 15—16).
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
