13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Зеньковский Василий, протопресвитер
Зеньковский В., прот. Система культурного дуализма
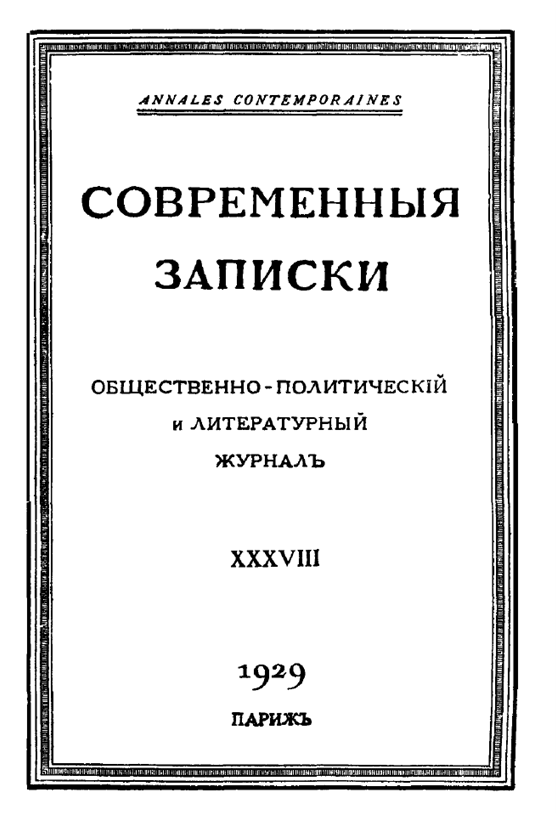
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
ЗЕНЬКОВСКИЙ В. В.
СИСТЕМА КУЛЬТУРНОГО ДУАЛИЗМА
I.
В новой истории нет ничего более существенного и значительного, чем борьба за свободу. Во имя свободы, за ее утверждение и осуществление боролись и будут бороться самые различные группы, народности; во всех сферах жизни и творчества мотив свободы играет самую важную роль, определяя собой и задачи и формы деятельности. Дух свободы проникает всюду, нередко разрушая сложившиеся формы жизни, но победное шествие свободы ничем не может быть остановлено. Всестрахи относительно реакции, могущей подавить начало свободы, как бы ни были они обоснованы в данной исторической обстановке, не могут закрыть того основного и существенного факта, что свобода держится не на внешних установлениях, а на возросшей внутренней силе личности, на невозможности для нее жить вне свободы. Кто вырос из детства, кто вкусил самостоятельной жизни, может быть, конечно, заперт в тюрьме, но никогда не может внутренне перестать требовать свободы, перестать нуждаться в ней. Есть разные ступени свободы, есть разные ее стили, но европейское человечество, вкусившее однажды свободы, от нее никогда не откажется. Отдельные люди, в той или иной фазе своей жизни, могут отказываться от свободы, добровольно подчинять себя чужой воле, но фактически даже такой отказ от свободы сам является свободным, чем свобода утверждается во всей силе.
Проблематика свободы однако очень сложна и запутанна. Дело стоит совершенно ясно, когда тема свободы обращена к внешним сторонам жизни, когда встает вопрос о политической свободе, об освобождении народов от чуждой власти, об освобождении от экономического рабства, от социального давления и т. п. Но если обратиться к внутренней жизни личности, к куль-
352
турному творчеству, то положение представится гораздо более сложным и неясным. Я думаю, что это связано с тем, что в мотиве свободы, как он зазвучал в европейской истории, сплелось две совершенно различных темы, никакого отношения одна к другой не имеющие. С одной стороны искание свободы и борьба за нее были выражением наступавшей духовной зрелости европейских народов, — и тут есть полная параллель между историческим и индивидуальным развитием. В жизни каждого человека его духовная зрелость обнаруживается тем, что все его мнения и действия определяются им самим, хотя бы по содержанию своему они были просто копией того, что думают и делают другие люди. Пусть мнения и действия будут лишь подражательными, по они имеют за собой свободное следование за ними — иначе просто нет зрелости. Стать зрелым не значит во всем быть оригинальным, но это значит быть ответственным за свои мнения и действия, т. е. осуществлять свою свободу и пребывать в ней. Но совершенно так же и в историческом развитии — по крайней мере это мы можем констатировать для Европы, Америки, а ныне уже и для Азии — наступает пора, когда народы созревают настолько, что они уже не могут жить вне свободы. В европейской истории, начиная еще с XV века, а кое в чем даже и раньше, проявления этого искания свободы, как выражения наступавшей зрелости, стали накопляться с чрезвычайной отчетливостью. Эта сторона в истории освобождения жизни и творчества ничем не может быть стерта, потому что она есть выражение зрелости. Зрелость может перейти в одряхление, но не в младенчество.
Но в европейской истории, совершенно параллельно с только что отмеченной стороной в искании свободы, проявилась и другая тема: свобода влекла к себе, как свобода от Церкви. Разложение средневековья выдвинуло этот мотив с такой силой, что и доныне он не утратил своей действенности: тем более велика была его сила раньше. Картина этого внутреннего, а затем и внешнего отхода от Церкви — я имею в виду католическую Церковь, так как дело идет о процессе, имевшем место в З. Европе, — так общеизвестна, что незачем здесь ее воспроизводить. Достаточно сказать, что основная религиозная и историческая неправда
353
средневековья заключалась в нераскрытостиблаговестия свободы, завещанного Христом. Христианство всем своим существом, всей полнотой религиозно преображающих сил вело к свободе, но исторически, в условиях средневековья оно держало личность в плотной и непроницаемой среде авторитета, не дававшей простор тем движениям к свободе, которые питала сама же Церковь через христианизацию души. Винить в этом одно католичество, одну Церковь было бы несправедливо, ибо вся историческая обстановка, вся психология людей того времени требовала и искала этой атмосферы авторитета. Достаточно указать на блаж. Августина, у которого не только преднамечено все средневековое миросозерцание, но и ясно выступают мотивы, определяющие его отношение к миру, к культуре. Напомним только его De civitate Dei и резкое противоставление Церкви и натурального порядка жизни.
Так или иначе разложение средневекового миросозерцания началось, хотя система средневековья продолжала действовать, уступая с крайним трудом требованиям времени. Это несоответствие системы авторитета новому строю личности, постоянная борьба церковной власти с проявлениями свободы, не угасшая еще и поныне, хотя и чрезвычайно ныне ослабленная — все это привело в XVI и XVII веке к такой страстной вражде к Церкви (католической), что процесс этот закончился двумя великими «сецессиями» — отделением религиозных групп, объединяемых общим понятием «протестантизма», и отходом культуры от Церкви, ее принципиальной и сознательной лаизацией, обмирщением. Явление секуляризации, в котором проявилась в известной мере духовная зрелость европейских народов, оказалось в то же время насыщенным враждой, а иногда и ненавистью к Риму, к Церкви. Этим окрасилось и пронизалось все освободительное движение, заполняющее новое время, и так трудно доныне с достаточной обоснованностью разграничить две темы, звучащие в общей борьбе за свободу. Эта путаница имела свою хорошую сторону, но имела и немало тяжелых последствий.
Два слова о первом. Вражда к католической Церкви, по существу, не означала того, что здесь рвались связи с христианством. Не говоря уже о протестантизме, в котором и доныне, несмотря на все процессы разло-
354
жения и распада, не исчезла любовь ко Христу, горячая и глубокая преданность Ему, даже в светской культуре, особенно той, которая была так или иначе связана с протестантским миром, не угасала любовь ко Христу и религиозное благоговение к Его заветам. Даже в позитивистических и нигилистических течениях светской культуры уцелела, хоть и в очень прикровенной форме, религиозная жизнь души: остатки и отблески религиозного одушевления очень сильно заметны и в пафосе Просвещенства, в внерелигиозном гуманизме, и в культе чистого знания, независимой этики, свободного искусства. Эти остатки религиозного огня, которые не всегда всем заметны, но которые образуют самую плодотворную и творческую силу у многих выдающихся представителей позитивистической культуры (назову среди русских только такие имена, как Герцена и К. Михайловского) — освещают очень существенную сторону в развитии светской культуры. Но мало сказать лишь об этом: историческая справедливость требует признать, что в некоторые формы светской, гуманистической культуры перелилась подлинная религиозная сила — назову Ламенне, как одного из типичных представителей этого направления. Социальный идеализм — в настоящее время это с особенной ясностью можно наблюдать в Америке — для большого количества людей явился «новой религией», т. е. охранил и укрепил духовные искания, религиозную функцию души. Мы, религиозные люди, часто склонны недооценивать это явление, а между тем, по разным причинам, о которых сейчас не стоит упоминать, одна из труднейших задач нового времени, задача индивидуальной, педагогической, исторической заботы, заключается в охранении религиозных сил души, в охранении религиозной ее функции. Если, в силу различных причин, стало трудно, а порой и невозможно прямое религиозное питание души, то необыкновенно важно охранить самые религиозные запросы души, предохранить ее от религиозного опустошения. Гоголь, один из наиболее тонких и чутких критиков современности, с ужасом констатировал опошление и измельчание души, раздробление ее, исчезновение крыльев, уносящих ввысь и убийственное для духовного здоровья всецелое погружение в мелкие дела. Он думал, что искусству дано быть той исторической силой, которая
355
охранит душу для духовной жизни, но он же сам уже предчувствовал ядовитый позднейший эстетизм, в котором замирает вся творческая и преображающая сила искусства, не идущая в силу этого дальше простого услаждения души. Сожжение 2-го тома «Мертвых Душ», среди других мотивов, определялось и этой глубокой тоской о существенном бессилии искусства. Гоголь не знал и не предчувствовал, что сохранить религиозный пыл, религиозные запросы дано будет не тем, кто наслаждается искусством, — равно как и не тем, кто возлюбил «чистое» научное творчество — а тем, в ком горит огонь социального идеализма. Однако даже в сфере искусства, а еще более науки, томление о Боге, прикрытое и закрытое теми или иными движениями души, охранялось и питалось. Светская культура, явно отошедшая от Церкви, а часто и забывавшая имя Христа, в существе не только не порвала связи с христианством, но даже охранила и собрала немало сил, которые отдали или еще отдадут себя делу Христа, делу Церкви. Как забыть об этом? Как ослабить значение всех тех незаметных, но исторически чрезвычайно важных процессов собирания и укрепления духовных сил общества, которое шло и идет в глубинах светской культуры? В ритме истории христианских народов они давно вступили в стадию сокровенности и закрытости их религиозной жизни, и как ни слабо проникает наш взор в то, что есть «смысл» истории, но все же видно и нашему взору, что явление светской культуры, при всех ее тяжелых и трагических сторонах, к которым мы сейчас перейдем, заключало и заключает в себе положительное и религиозно творческое, религиозно нужное делание. Правда, не могло даром пройти, что в культурном сознании дело христианства оказалось не очень ценным, а часто и ненужным и вредным; кризис религиозного сознания, не может быть всецело покрыт всеми ценными итогами того дела, которое совершалось светской культурой. Связь между христианством и культурой, находя все меньше опоры в религиозном сознании, слабела от поколения к поколению, что угрожало и ныне еще угрожает глубоким религиозным вырождением европейского мира. Но независимо от нас, в силу ритма истории, за которым нельзя не ощущать Промысел, направляющий ход истории, мы приблизились
356
вновь к религиозной эпохе, близка весна духовного возрождения, согревающая ныне весь мир — и тема о христианской культуре, о сочетании христианства и культуры вновь выступила на первый план. И как раз в свете этого особенно ясно, что в явлении светской культуры есть нерастраченная и не угасшая сила религиозного гения, сохранившая для религиозной жизни многое в современности. Преждевременное, слишком острое отрывание светской культуры от христианства, их резкое противоставление не в интересах христианства — и если даже фактические их связи слабы и поверхностны, если они ничтожны и все больше тускнеют, они все же еще есть.
Но в явлении светской культуры была и другая сторона, мимо которой нельзя нам пройти. Когда наметился, а затем и стал постепенно разрастаться конфликт между католической Церковью и свободными исканиями европейских культурных деятелей, то не только настроение вражды стало проникать в культурное творчество, но стало явно выступать и явление религиозного потускнения. Религиозные силы, религиозные запросы нашли себе исход в других формах, прикровенно хранились и питались в культурном творчестве, но религиозное сознание вступило в трагическую свою фазу. То раздвижение религиозного сознания и религиозной жизни души, которое произошло в Европе, таило в себе огромную опасность для духовного здоровья и эта опасность рано или поздно должна была сказаться с полной силой. Так оно и произошло еще в середине XIX века, а ко времени войны положение достигло крайней остроты. «Религиозность», не имеющая опоры в сознании, действующая сокровенно в душе, может держаться в душе, как сила, как проводник утаенных, отодвинутых духовных движений очень долго, но лишь под покровом молчаливого уважения к религии в атмосфере полунаивного, но искреннего и простодушного сочетания внутренней религиозности и ее отрицания в сознании. Но рано или поздно это неустойчивое равновесие должно притти к концу и поставить нас перед лицом острого противоречия в душе, потребовать более глубокого и существенного единства в духовной жизни. Я думаю, что мы находимся именно в такой точке истории; неустойчивое равновесие, таившее в
357
себе глубокое противоречие, не может далее держаться, ставя нас перед задачей нового синтеза. Сама задача этого синтеза была поставлена в истории тогда, когда оказалось, что в светской культуре действуют и развиваются неугасшие религиозные силы. Но поставленность известной задачи не означает необходимости немедленного ее разрешения. Ныне необходимость эта на лицо, — она создана целым рядом исторических обстоятельств, из которых я упомяну здесь о самых существенных:
1.Активное безбожничество существовало очень давно, но во второй половине XIX века и особенно в XX веке оно сказалось с такой силой, что ему противостоять может не нейтральная позиция светской культуры, а лишь определенная религиозная позиция. Религиозная нейтральность культуры зашаталась настолько, что стала почти мнимой. Свободомыслящие во всех странах — и прежде всего во Франции — стали добиваться и кое-где добились полной лаизации школы, что привело к обострению вопроса о религиозном воспитании молодежи. Идеи Дарвина послужили одним из наиболее сильных исходных пунктов в борьбе религиозного и антирелигиозного мировоззрений. Достаточно указать на Monislenbund в Германии, поставивший своей задачей активную борьбу с христианским мировоззрением. В Америке, стране огромного религиозного напряжения, уже после войны возникает общество, именуемое «4А» (American Associafion for the Atlvanco of Atlieism), и имеющее главное распространение среди молодежи. Но особого развития активное безбожничество достигло в Советской России, где возникла при помощи и под покровительством власти, сильная организация, ставящая своей целью разрушение религиозного мировоззрения. Деятельность этой организации ограничивается только пределами России, но благодаря ей стала совершенно ясна картина огромного распространения «вольного» безбожничества во всем христианском мире. Гонения на религию в Советской России, имеющие столь открытый и принципиальный характер, по существу своему дают лишь осуществление того, что на словах или в малых делах выдвигается всюду. Активное безбожничество коммунизма договорило до конца и обнажило тенденции, давно накоплявшие-
358
ся в европейском мире — особенно много родственного в этом отношении являет Германия.
2. С другой стороны та внерелигиозная культурная психология, которая сложилась в XVIII веке, за XIX век выявила ряд глубоких крахов, подготовлявшихся давно, но с особенной силой проявившихся во время войны и после войны. Война обнажила и заострила ряд процессов, давно происходивших в христианском обществе; то, что раньше переживалось немногими, более тонкими и чуткими натурами, коснулось более широких масс и поставило с необычайной остротой вопрос о возврате к религиозной культуре, к новой культурной психологии. Быть может наиболее ярким и влиятельным проявлением этого было все то, что связано с Толстым. Его личный кризис, с исключительной силой выраженный им в «Исповеди», заключался как раз в крахе безрелигиозной психологии, в невозможности жить той уже опустошенной и потускневшей установкой «просветительства», которой еще жил пока весь мир. В книге проф. А. П. Гилярова, посвященной духовным исканиям во Франции во второй половине XIX века, собран поучительнейший материал, говорящий о таком опустошении души, о таком ее самоотравлении, за которым следует духовная смерть. Все колоссальное явление Ницше, столь органически и глубоко связанное с основными болезнями европейского мира, несмотря на его явные антихристианские тенденции, по существу является беспощадными, радикальным приговором безрелигиозной психологии, тем суррогатам религии, которые выдвинула жизнь за XIX век. Его критика современности, в более едких и жгучих словах рисующая то, что уже отметил Гоголь, срывала маски, обнажала всю пустоту и мелочность, всю ложь безрелигиозной морали долга, безрелигиозного культурного творчества. Ницше по существу делал в Европе то, что у нас делал Толстой и Достоевский. Вся еще незаконченная, но огромная уже и ныне власть Достоевского над европейской душой определяется крахом безрелигиозной психологии, ее потрясающим, трагическим банкротством, страстной тоской о целостной и цельной духовной жизни. По удачному выражению одного из виднейших немецких писателей (Hermann Hem) Достоевский открыл перед всеми тот хаос, который надвинулся на европейский мир и угрожающе на-
359
вис над ним. С другой стороны достаточно прочесть дневники Пирогова, автобиографию Дж. Ст. Милля, бесчисленные статьи современных ученых, чтобы убедиться в том, что наука, осознанная в своих границах, не только не устраняет религии, а наоборот остро ставит вопрос о последней основе бытия. Идеологический кризис современности был раньше всего изжит в России, и здесь огромная заслуга о. С. Булгакова, Н. Л. Бердяева, С. Л. Франка, как и ряда других мыслителей заключалась в уяснении идейной необходимости возврата к религиозному мировоззрению. В сфере философии не просто выросла и окрепла необходимость метафизики, но последняя серьезная попытка позитивной системы, предпринятая Авенариусом и Махом, показала всю бедность и бессилие позитивизма. С позитивизмом ныне просто не спорят... И все это завершилось тем глубоким идейным провалом, который принесла с собой война. Не случайно после войны вышла знаменитая ныне книга Шпенглера о «закате Запада». Я не поклонник этой книги и совершенно не разделяю ее основных положений, но самый факт невероятного успеха этой книги, создавшей вокруг себя бесчисленную литературу, красноречиво свидетельствует о глубоком потрясении культурной психологии, об отражении в ней наиболее существенных духовных ее потребностей.
3. Протестантизм, дававший религиозное убежище тем, кто всей душой сливался с культурным творчеством, мог это делать лишь в силу одностороннего спиритуализма, позволявшего признать сферу истории и сферу культуры «нейтральной». Этим в свое время создан был «худой мир» между христианством и культурой, и на основе этого мира кое-как охранялись и даже питались религиозные запросы и религиозные силы современного общества. Но «спиритуализм» в протестантизме дошел до такой крайней точки, при которой разделенность религиозной сферы и сферы культуры привела к полному их разрыву. Все так назыв. Бартианство (догматическое направление в немецком протестантизме, связанное с К. Бартом и его друзьями) есть полнейший и последовательный отрыв от религиозного восприятия культуры — культура для этого течения никакой религиозной цены и никакого религиозного смысла не имеет в себе. И в полном со-
360
ответствии с этим религия оказывается трансцендентной культуре; по удачному выражению Зиммеля, религиозная жизнь в наше время стала «музыкальной», абсолютно невыразимой в ясных и четких формах объективного мира. Догматический кризис протестантизма — и это можно отметить в нем уже с самого начала — всецело связан с темой о Церкви. Церковь не вмещается в историю, Церковь «невидима», внеисторична, в ней ничего не связано с историей (отсюда выпадение «предания», религиозная пустота всего, что было после проповеди I. Христа) — эти все мотивы ясны уже в истоках протестантизма. Но парадокс истории (см. работу М. Вебера — ReligionssoziologieВ. I) привел к тому, что именно протестантизм долгое время был религиозной почвой для плодотворнейших и важнейших исторических явлений. Сочетание в протестантизме спиритуального, безцерковного по существу религиозного вдохновения и живой, творческой обращенности к культуре было той основой, на которой развивалась новейшая культурная история. Но уже в первых проявлениях американского протестантизма система «неустойчивого равновесия», система сочетания христианского спиритуализма с творческим культурным действованием явно нарушалась в сторону последнего. Если изучить современный американский протестантизм — чем отчасти и мне самому пришлось заняться, когда я был в Америке, — то совершенно явственно выступает факт растворения религиозности в социальном идеализме. Интереснейшая религиозно педагогическая утопия Ко (Сое) является, пожалуй, наиболее удачным выражением того, куда уходит былая религиозная сила американского протестантизма. Традиционализм бесшумно сходить со сцены или переходит в мистические искания конкретного христианства, т. е. явленной (исторической) Церкви таков, напр., так наз. Букманизм и другие явления. В иных тонах это идет в Европе, но тенденции те же. Классический протестантизм сохраняется еще, но почти все живые силы ушли в другую сторону — либо в сторону мистицизма, либо в трагизм бартианства (оба течения внекультурны), либо в сторону социально религиозного идеализма, либо наконец в сторону Православия (Una Sancta и близкие течения). Культурное творчество светской Европы теряет год за годом религиозную основу, обна-
361
жается и раскрывается в своей «автономии» и именно потому так сильна ныне потребность целостной, т. е. религиозно осмысленной культуры. Расхождение христианства и культуры зашло слишком далеко именно там, в той точки,где находятся живые истоки идеологии и творческой психологии современной культуры. Конечно, всегда будут люди или наивно питающиеся тем, что отжило, или в суете современности не доходящие до тревоги. Но более сильные и более чуткие натуры чувствуют глубочайший провал именно там, где ищут они опоры. В целом ряде путей культуры и в самой ее основе ощущается уже не недоговоренность, а трагическая разорванность, и старая тема, от которой пошла вся история Европы, тема о христианстве, как основании жизни, а следовательно и культуры, ставится вновь с небывалой остротой. Или надо честно и мужественно сознаться, что нет и не будет религиозного освящения культуры, надо фактически строить историю без укрепления ее на религиозной основе — или надо прямо и смело вернуться к теме об освящении культуры, о преодолении наивного и беззаботного натурализма, о сознательном и вдохновенном движении к церковной культуре — конечно не в тонах средневековья (бывшего собственно не теократией, а «иерократией», — точнее «клирократией»), а в тонах подлинной свободы. Путь к церковной культуре идет, конечно, через преодоление хаоса натуральности (индивидуальной, национальной, исторической), но не посредством внешнего упорядочения этого хаоса (как думал и думает католический мир), а через преображение извнутри. Это и есть решающий момент. Возврат к церковной культуре никоим образом не может быть основан на принудительном подчинении Церкви всей полноты культуры. Это и фактически невозможно и религиозно есть соблазн: Церковь может внести свою преображающую силу только там, где ее свободно ищут, где она прежде всего просветляет глубины человека, устрояет и упорядочивает его подполье, извнутри сообщает силу Божию. Путь Церкви через историю может быть только путем через сердца — иного пути христианству просто не дано, по самой его сущности: иное есть подмен, обеднение, маловерие. Но если путь Церкви идет через сердца, то это вовсе не ведет к то-
362
му спиритуализму в понятии Церкви, которым болен протестантизм: в Церкви действует начало соборности, подлинного сочетания отдельных личностей в историческое тело Церкви, которое и есть Богочеловеческий организм.
Ошибка средневековой теократии («клирократии») заключалась в том, что Римская Церковь, для осуществления Царства Божия, для преображения исторической натуральности в благодатный порядок стремилась пользоваться силами же истории, в частности — властью. Путь Церкви был здесь понят, как путь властвования в мире. И если разбилась концепция о светской власти Римского первосвященника, то она переливается в идеал «социальной клирократии». Впрочем, в современном католичестве есть и иные, подлинно христианские в этом вопросе течения — и кто знает, непридет ли еще эпоха внутреннего просветления католичества? Но сейчас, в реальной исторической обстановке, католичество остается могучим фактором культуры только потом, что католический мир (здесь его психология очень запутана) боится коснуться своей уязвимой точки (теократии). Тот же, кто до конца это понимает, сознает внутреннее неприятие свободы в католичестве, а потому и невозможность для католичества (пока оно остается таким, каким является сейчас) вернуть истории, культуре христианский смысл. Тема свободы является здесь основной — и неприятие свободы в католичестве является роковым. Новая церковная культура, если она еще возможна в мире, возможна только в лоне Православия, историческая сила которого, несмотря на все ошибки, потрясения не только не растерялась, а наоборот в очищающем огне страданий лишь закалилась и окрепла. Но путь к церковной культуре не может строиться мимо и вне современности; мы живём в эпоху если не цветения, то во всяком случаенапряженнейшогодействования культурных сил Европы. Поэтому, недостаточно сказать, что в Православии неустранима стихия свободы, что в нем есть необходимые условия органического, целостного синтеза истории и Церкви. Этой, принципиальной стороны я здесь просто не касаюсь *), щадя место и
*) Ей отчасти была посвящена моя статья «Идея православной культуры» в сборнике, изданном под моей редакцией «Православие и культура».
363
имея в виду достаточно сказать в более конкретной трактовке вопроса. А эта конкретная постановка вопроса заключается в том: как среди современности может быть намечен и осуществлен путь церковной культуры? Дело не только в принципиальной возможности церковной (оцерковленной) культуры в лоне Православия, но и в реальной осуществимости ея. Именно так ставя вопрос, мы входим в самое существо той проблемы, вокруг которой идут споры.
II.
Различить, что в современности допустимо или недопустимо для христианина, очень трудно. Помимо естественного многообразия типов людей с их различными интересами, имеет огромное значение момент чутья, «вкуса». Иное отвергается просто потому, что оно мне не нужно или даже неприятно — так можно отвергать и (отвергают) искусство вообще или какое-нибудь отдельное искусство, потому что данный человек не знает, не любит этого искусства, не нуждается в нем. С другой стороны многое приемлется в современности просто за отсутствием более тонкого чутья. Господство безвкусицы томительно ныне всюду, — сильно оно и у религиозных людей, которые иногда могут сочетать с своим подлинным и религиозным чувством «приятие» таких фактов и течений современности, что приходится просто разводить руками. Не буду приводить никаких примеров, чтобы никого не задевать.
Однако для существа дела это не имеет значения. В истории культуры, в истории самой церкви всегда выступает закон, что новая правда или более глубокое ее выражение выносится на своих плечах всего несколькими людьми, небольшой кучкой. Что превращает такие «достижения» отдельных лиц или групп в истерические явления? Как пример — достаточно привести само христианство, первоначально собиравшее кругом себя небольшие общины, а затем лишь «завоевавшее» мир. Конечно, наименее уместно здесь было бы говорить о подражании, о силе исторической инерции или о действии случайности. Если где-либо загорается огонек правды, он может остаться, конечно, и незамеченным, — но если его замечают, к нему начинают тянуться люди. При-
364
помните из жизни преп. Сергия возникновение и разрастание монастыря, впоследствии Троицко-Сергиевской Лавры: правды ищут столь многие, в правде нуждаются с такой силой, что если она где-либо вспыхнет и не пройдет незамеченной, она станет центром сосредоточения многих и многих.
Эти элементарные соображения и необходимо положить в основу того, что я называю «системой культурного дуализма», т. е. сосуществования рядом религиозной и безрелигиозной культуры. Находясь в самой гуще современности, мы с трудом могли бы совсем уйти из нее, — а если бы и ушли, то не наметили бы этим пути для Церкви. Внешний уход из современности, каким было монашество на заре своего возникновения, столь мало возможен в наше время, что он сохраняет свое значение лишь для немногих. Конечно, он всегда будет существовать тем более, что он нужен иногда не только в силу потребности духовной жизни, но и по причинам более жизненного характера. Однако история монастырей говорит, что даже в прошлом они, возникая из потребности ухода от мира, очень быстро сами этим миром обрастали и неизбежно становились крупным фактом культуры. Таково было действие жизни, и немногие монастыри сохраняли свою отделенность от мира. Наше же время нуждается как раз не в отделенности Церкви от мира, а в действовании ее в мире: духовная задача нашего времени, стоящая перед Церковью, перед церковными обществом заключается в том, чтобы созидать оазисы церковной культуры, проводить в современность начала христианства. Я не хочу этим ни в малейшей степени и ослабить значение созерцательных монастырей, мистического сосредоточения в себе: этот тип духовного делания вечен, всегда нужен, всегда много лает истории, как невидимый источник тех сил, которые являются миру. Но время наше есть время явления Церкви в миру, время ее действования в системе современной культуры: у этой именно точки происходит невидимая, но существеннейшая борьба христианства и враждебных ему сил. Спасение мира, возвращение его к духовному здоровью совершается именно здесь, у этой точки. Весь вопрос в том: как это может быть сделано? Самый вопрос уместен и законен потому, что дело идет об объективном факте культуры, разросшейся, усложненной
365
чрезвычайно: иначе говоря, дело идет не о действии Церкви в отдельной душе, а об историческом ее действовании.
Если Церковь несет миру силу, освящающую движение истории, то есть в этом некая общая сторона, которая сохраняет свое значение всюду и всегда, которая в то же время не определяется нами. Но это общее освящающее действие Церкви, которым одним держится наша жизнь, не только не исключает иных, более частных освящающих действий Церкви, но прямо требует их. Именно в этих фактах и должна проявиться оцерковляющая мир сила Христова; в искании путей и форм такого оцерковления и заключается работа церковного сознания. Необходимо с достаточной ясностью и отчетливостью определить эти конкретные задачи, а затем необходимо сосредоточение церковных сил для решения этих задач. Те, кто хотели бы отдать свои силы на служение Церкви, могли бы на этом пути найти возможность работать у самой больной и самой важной точки церковной жизни. Для этой работы Церковь нуждается в притоке свежих сил, нуждается в жизненно крепком их связывании, если угодно нуждается в своеобразном новом миссионерстве, которое, помимо внутренней религиозной работы, открывало бы глаза верующим на задачи и трудности эпохи, одушевляло бы их идеей оцерковления жизни, творило бы оазисы оцерковленной культуры и тем подготовляло бы расцвет и возрождение религиозной жизни во всем народе. Церковь наша русская утратила близость к власти — и если бы даже история кое-что вернула в этом отношении Церкви, ее работа по оцерковлению жизни и культуры может быть верной и глубокой только в условиях свободного обращения людей к идеалу оцерковления. Свободная инициатива отдельных людей и целых церковных общин единственно намечают верный путь: это не есть отказ от помощи государства и его покровительства, это есть отказ от использования государственной власти при развитии церковной культуры. Помощь и покровительство государства здесь нужно так же, как и всюду в жизни, но невозможно силой государства насаждать те или иные формы церковной культуры, принудительно вводить их где-либо. Оазисы церковной культуры должны привлекать к себе очарованием сво-
366
им, воспламенять своей правдой — иного пути здесь нет. Можно и должно звать к торжеству начала Церкви в жизни, но нельзя их насаждать с помощью власти. Внутри нашего христианского общества должна зазвучать проповедь сближения Церкви и жизни — не для отвержения исторически сложившихся форм освящения жизни, а для проведения более целостной и духовно единой системы, не нужно осуждать тех, кто как то соединяет в себе христианство, твердую веру в I. Христа и безоговорочное приятие современности во всей ее полноте. Но должно самим искать иной жизни, иных путей, на которых было бы возможно преодоление противоречий и ядовитых начал современности. Внехристианские мотивы в современности в этом отношении труднее и опаснее прямых антихристианских мотивов, которые легко распознать и с которыми возможна прямая борьба. Но все то, что идет под знаком религиозной нейтральности и кажется потому вполне приемлемым, на самом деле опустошает современность, разрывая связь Церкви и жизни в той или иной точке. Восстанавливать эту связь необходимо с величайшим тактом и осторожностью, а главное — не борясь с прежними формами жизни, а создавая новые.
И это значит, что «старому порядку» не грозит никакой беды, кроме его естественного одряхления. Та боязнь «церковной культуры», которую часто приходится констатировать, связана либо с мыслью, что «церковная культура» будет насаждаться принудительно, что для людей иного склада не будет дано простора и свободы, — или же в этом страхе есть жуткое ясновидение своей беспомощности, своей опустошенности и невозможности соперничать с другим порядком вещей. С этой стороны действительно приходится «бояться» эпохи церковной культуры: если бы она пришла, многое бы увяло и распалось в системе современности, но не потому, что было бы преследование, а потому что все вдохновение, вся правда и сила ушли бы из безрелигиозной культуры. Самое слабое предчувствие этого волнует многих современников, — и этот трепет, это тайное сознание в своей пустоте так часто облекается в защиту свободы. Есть ведь такие защитники свободы, которые хотят свободы лишь для себя и боятся чужой свободы. Но если действительно должна
367
быть обеспечена свобода для неверующих, для поклонников «нейтральности культуры», то почему же отказывать в свободе и верующим, стремящимся к оцерковлению культуры? Свобода нужна одним, но нужна и другим.
Одностороннее понимание свободы, доныне замечаемое в современности, не может быть удержано, и это лежит в самом существе свободы. Если исторически тема свободы срослась в европейском человечестве с правом на безверие, то приходит новая эпоха в осуществлении и явлении свободы, защищающей право на веру. Наиболее энергично и значительно идет последний процесс кругом борьбы за школу, — и так как это чрезвычайно важный вопрос и для нашей проблемы, то мы несколько остановимся на этом пункте.
Лаизация школы, отделение школы от Церкви знает два типических образца — один французский, другой американский. В первом случае принудительное устранение из школы религиозного преподавания определялось мотивами свободомыслия и агрессивного атеистического позитивизма, во втором случае обстановка была как раз противоположная: во имя религиозного воспитания школа была освобождена от него, чтобы не стеснить различных религиозных течений, стремящихся охранить своих детей в определенных традициях. Однако в обоих случаях итоги лаизации школы были совершенно однородны: они показали, что разрыв жизни и христианства, при лаической школе, развивается с такой силой, с такой быстротой, что даже при широкой организации дополнительных религиозных школ (т. наз. «воскресных школ» — Sundav Schools) почти половина детей остается совершенно вне всякого религиозного воспитания, а та половина, которая посещает дополнительные школы, является религиозно слабой и вялой. Именно отсюда и возникла в самое новое время борьба за конфессиональное преподавание, за религиозную школу. Борьба эта, детали которой всюду очень интересны и особенно в Германии, где вокруг этой борьбы произошло формирование родительских организаций, представляет странное зрелище в современной Европе, лишающей нередко своих граждан права давать религиозное воспитание своим детям. Конечно, государство должно обеспечить право на образование и тем детям, родите-
368
ли которых хотят воспитать их вне всякой религии, но право других родителей на религиозное воспитание может быть отнято только путем насилия. Совершенно ясно, что такое положение неверно, роняет и унижает режим свободы и лишь заостряет и ускоряет процесс разделения религиозных и антирелигиозных слоев общества. Именно этот процесс нас сейчас и интересует: мы идем к официальному признанию двух систем культуры и чем медленнее будет идти этот процесс, тем более острые формы будет он принимать. Все, кто следит за французской жизнью, знают, что именно остротой школьной политики больше всего повредили здесь делу свободы. Трудно гадать о сроках, но несомненно, что Франция, позднее Германия, а в свое время и Америка придут принципиально к системе культурного дуализма. Достаточно взять замечательную книгу TeHcIiing Work of Church, изданную специальной комиссией, организованной, если мне не изменяет память, федеральным советом протестантских церквей Америки, чтобы убедиться, что выдающиеся представители религиозной педагогики идут в сторону «оцерковления школы». Стремление протестантских церквей к объединению (на мой взгляд ничего не дающее, как показывает самая яркая попытка этого в создании Union Theological Seminary при Columbiа University в New York) среди различных причин имеет и эту заботу о воссоздании религиозного преподавания в школе — что без объединения протестантских церквей в Америке действительно трудно осуществимо.
И все же установление «системы культурного дуализма в области школы, возникновение чисто лаических и строго конфессиональных школ (что фактически в ряде стран уже имеется) кажется мне столь неизбежным, что все споры против этого представляются мне пустыми. А ведь школьный вопрос имеет лишь частичное значение в теме, которой мы заняты. За низшей и средней школой идет высшая, за ней вся система научной работы, а за наукой — другие сферы культуры. В этом отношении пример католических стран говорит очень много. Факт существования католических университетов — во Франции, Бельгии, Америке — есть не только безспорный и значительный факт нашего времени никто, кто знаком с европейской наукой, не сможет отри-
369
цать, что здесь идет дело о подлинной науке. Если познакомиться, напр., с довольно уже давними конгрессами католических ученых, с их трудами, то приходится признать факт конфессиональнойнауки. Самая формула звучит еще дико — тем более, что утверждение решительной нейтральности всякой науки принадлежит, можно сказать, к числу самых бесспорных «аксиом» европейской культуры. Конечно, наука давно перестала быть, вслед за философией, ancilia theologiae, — и в пафосе свободной науки как раз ярче всего и полнее всего проявилось просвещенство. Но надо сознаться, что «нейтральность» науки, в развитии научного самосознания, получила столь своеобразное освещение, что о прежней, наивной и примитивной вере в т. наз. «чистую» науку приходится говорить где-нибудь в глухой провинции. Прежде всего развитие гносеологии установило всю пустоту и мнимость «беспредпосылочной» основы науки и философии. Ни философия «чистого опыта» не дала такой беспредпосылочной основы, так как под видом «чистого опыта» было предложено одностороннее биологическое описание части познавательного поведения человека, — ни т. наз. феноменология, которая по существу есть формальный метод правильного установления исходных фактов и их смысла, но в которой в то же время открывается широкий простор для адекватного учета более глубоких фактов в наших переживаниях, чем этого хочет односторонний позитивизм. Достаточно указать на то, что именно благодаря феноменологическому методу окончательно установлена для всякого здравого философского сознания опытная природа моральной, эстетической и религиозной жизни. То, что в этих сферах мы имеем дело тоже с «опытом», ставит вопрос о «чистой» науке совершенно по новому, ибо вскрывает основную и внутреннюю связанность познавательного и эмоционального мышления. Развитие гносеологии и психологического изучения мышления показывает мнимость отделенности познавательной сферы от оценочных функций духа. Элементарный позитивизм кое-как еще может удерживать свои позиции при охранении классического трансцендентализма, с его автономией категориальных сфер, лишь ассоциативно связанных в субъекте, в которых проявляют себя эти сферы. Однако развитие гносеологии медленно, но неизбежна
370
ищет органическогопонимания сопринадлежности различных категорий мыслящему субъекту, — а это в существе подрывает идею абсолютной независимости различных категорий духовной жизни (на чем собственно и держится принципиально идея «чистой» науки). Одно бесспорно. Возможны две принципиально расходящихся установки в познавательном мышлении (беру их в отношении лишь к вопросу о религиозной реальности: по существу такая полярность мыслима и в отношении к моральной и эстетической сфере, но фактически эта полярность не имеет здесь такого значения, как в отношении к религиозной реальности). Одна установка можете делать исходной основой часть опыта, именуемую познавательным опытом (чувственный внешний, внутренний и социально психический опыт), другая установка может с самого начала брать исходной основой полноту опыта, т. е. включать в себя бытие Божие и его раскрытие в положительном вероучении. Одна система научного знания, может и имеет на то полное право — исходить из указанных фактов чувственного опыта, вводя затем то из нечувственного опыта, что представляется так или иначе мотивированным, -другая система исходит из факта, что Бог создал мир, что Он управляет миром и историей. Последнее утверждение, кажущееся «необоснованным» для людей неверующих;, является для людей веры не менее, а более несомненным, чем реальность цветов, звуков и т. д. Если это кому-нибудь кажется смешно или глупо, мы, верующие, не будем на это сердиться и негодовать, - мы только требуем принципиального признания нашего права на построение системы научного знания на основе, полноты нашего опыта. Если первую установку можно назвать натуралистической, то вторую охотно назовем мы супранатуралистической. И вот мы утверждаем: то, что называлось «чистой» наукой фактически было или натуралистической или супранатуралистической наукой. Tertium (т. е. подлинно «чистая» наука) datur только тем, кто не возвышается до науки, как системы, как научного мировоззрения, кто занят частичными вопросами. Возьмите довольно поверхностную, но богатую фактами книгу проф. П. Я. Светлова («Религия и наука») вы убедитесь, что одни ученые в изучении природы руководились натуралистической кон-
371
цепцией, а другие — глубокой верой в Бога, как Творца и Промыслителя. При этом надо отметить, что обе этих концепции вовсе не являются какими-то дополнительными и несущественными, побочными фактами сознания, а имеют глубочайшее значение в динамике мышления, ставя определенные задачи определяя всю глубину внутреннего отношения к этими задачам. Психология мышления, как ни медленно развевается она до сих нор, ставит этот факт вне всякого сомнения.
Но тут необходимо устранить одно недоразумение, чтобы не подать повода для дальнейших недоразумений. Истина, открывающаяся нам в беспротиворечивом мышлении, лишь в своем происхождении,в своем узрении нами зависит от всего психического контекста, в котором она предстает познающему субъекту, но взятая в тех или иных своих оформленияхона, разумеется, подчинена законам логики, свободным от какой бы то ни было оценочной сферы (морали, эстетики, религии). В самом деле, истинны, открытые неверующими людьми, не меркнут от этого в своем свете и для верующих, как и обратно: при изучении, напр., и анализе исследований Менделя о законе наследственности никакого значения не имеет то, что Мендель был католическим священником. Есть поэтому в науке, в ее построениях стороны, которые требуют чисто логического подхода к себе и которые, с этой своей стороны, могут быть, конечно, названы нейтральными. Но научное творчество, взятое в своих конкретных формах и условиях, обнаруживает глубокую зависимость от нашего миросозерцания: этой зависимости нельзя устранить, ее только нужно критически сознавать. Поэтому выдавать натурализм, как одну из возможных установок в научной жизни, за неизбежную и единственную установку, нет никаких оснований. Не отвергая ни факта, ни принципиальной возможности натуралистической науки, мы только противоставляем этому факт и принципиальную допустимость религиозной науки. Здесь я не имею никакой возможности подробно выяснять это, а могу только отметить, что современная наука, в лице самых различных ее представителей, становится в наше время все более именно религиозной наукой, не теряя
372
ни на одну йоту всего того, что обеспечивает ей ее подлинную научность.
Не имея возможности дальше развивать эту, чрезвычайно важную тему, я лишь намечаю ее постановку и хочу сейчас отметить, что именно в затронутом пункте особенно ясно выступает весь смысл того, что я называю системой культурного дуализма. Намечая лишь здесь самую суть вопроса и имея в виду обратиться к еще одной, быть может самой важной стороне вопроса, я хочу подчеркнуть, что для очень многих (даже религиозных) людей идея двух ориентаций в науке, идея как бы особой религиозной науки, кажется не только вредной, но главное ненужной идеей. А между тем эпоха наивного сочетания религиозных и вне религиозных мотивов, что характеризует последний период европейской культуры, кончается — и это не зависит от наших построений, а наоборот наши построения определяются этим фактом...
Но система культурного дуализма встает во всей своей трудности (для религиозной части современного общества) тогда, когда мы от школы и науки обратимся к тому, как может быть в реальной жизни, в системе социальных отношений проведена идея культурного дуализма. Вопрос здесь стоит так: если современная социальная жизнь, как продукт предыдущей эпохи, заключает в себе тоже смешение религиозной и безрелигиозной (очень часто антирелигиозной) стихий, если для религиозных групп возникает проблема целостной социальной жизни, т. е. возвращения ее к более четкому и подлинному религиозному основанию, то как этот процесс оцерковления может быть проведен — уже не в теории, а в живой действительности — если мы имеем дело в наше время с очень усложненной и напряженной социальной жизнью? Христианство в свое время начало освящение жизни, отталкиваясь от своей современности, мы же от своей современности технически и духовно уйти не можем, мы должны творить свое дело как то внутри современности, не уходя от нее, но и не растворяясь в ней. Если однако не будет создана более или менее здоровая религиозная среда, то создана подлинно религиозной школы почти невозможно*). Ошиб-
*) См. мою статью «Церковь и школа» (Вопросы религиозного воспитания и образования. Вып. I)
373
ка утопии Ко (Сое) в том и состояла, что он думал путем школы реформировать и жизнь, между тем школа, т. е. дети, не в состоянии сами начать новый порядок жизни, если одновременно с ними этот новый порядок не будет осуществляться и взрослыми. Вне религиозных общин, живущих более или менее в духе своих верований, религиозная школа не может дать ничего, в лучшем случае она будет оранжереей, выращивающей цветы, неизбежно гибнущие, как только их выносят на свежий воздух. Тема нашего времени есть тема не о религиозной школе только, не о религиозной науке или искусстве, а о новой жизни, о религиозном укладе самой жизни. Отодвигать этот, труднейший, а вместе с тем основной вопрос было бы малодушием.
Я не могу развить сейчас в достаточной полноте то, что хотелось бы мне сказать по этому, самому ответственному вопросу. Я ограничусь только, что набросаю в самых общих чертах некоторую, если угодно, утопию, касаясь ее здесь лишь настолько, насколько это необходимо для основного вопроса нашей статьи.
Когда образуется новая семья, она отделяется от старой, но не порывает с ней связи: так мыслю я и возникновение религиозных общин внутри современности. Этот процесс постоянно встречается в истории — и это просто означает, что это есть неизбежная и естественная форма, в которой выступает стремление к религиозной реформе жизни. Группы — большие или небольшие, — это не имеет никакого значения для принципиальной стороны дела, хотя практически очень существенно, — группы религиозно объединенных людей (семейных или одиночек), селясь вместе, образуют свой особый мир, в котором они стремятся к религиозному преобразованию социальных и экономических взаимоотношений. Это преобразование не означает нетрезвого и абстрактного радикализма, наоборот, в основе его должно лежать очень вдумчивое учитывание всей технической и социально-экономической структуры современности, только все это должно быть иерархически подчинено тому началу, которое религиозно вводит силу освящения в жизнь начало Церкви. Эти группы — это не приходы (обновление которых есть дело исключительной важности, по и чрезвычайной трудности) — это «малые церкви», некие расширенные семьи, которые стремятся дух церковности внести
374
в социальную жизнь свою. Тут нет, как и вообще в Церкви, принуждения, но есть дисциплина: кому она трудна, тот просто уходит. Живя вместе для того, чтобы помочь друг другу жить по правде Христовой, эти общины имеют своей целью не удобство и не идейную завершенность в построении жизни — а христианскую взаимопомощь. Эта надсоциальная цель не только освящает взаимные отношения, но и подымает их над всей сложностью и запутанностью конкретной жизни — а вместе с тем водворяет необходимую целостность и религиозную оправданность в жизнь. В идеале такие общины должны были бы быть самосозамкнутыми, но при современной сложной технике это невозможно, а религиозно это и не страшно. Пользование всей современностью возможно без ущерба для религиозной целостности группы, но важно то, чтобы внутри группы царил иной порядок. То, что удалось для христианской семьи вообще, должно осуществиться в большей социальной группе, которая должна не о преобразовании всей социальной стихии мечтать, а о посильном, но согретом подлинностью осуществлении религиозной правды во взаимных отношениях. Как бы ни были ничтожны внешние перемены, могущие здесь возникнуть, но центр тяжести лежал бы во внутреннем одушевляющем их начале. Соединение таких групп может сообщить им значительную социальную силу, выдвигая параллельно с этим очень трудную проблему охранения первоначальной духовности. История религиозных общин, включая и монастыри, отчетливо показывает все трудности, в этом направлении, однако не дает и оснований для решительного пессимизма.
Но моя задача сейчас вовсе не в том, чтобы защищать осуществимость намеченного плана, который я сам готов назвать утопией (в лучшем смысле этого слова) — я думаю лишь, что именно в этом направлении должна формироваться система «культурного дуализма». Будет ли она развиваться в эту сторону или нет, это не затуманивает принципиальной стороны дела, которая здесь единственно очень важна. Существенно здесь то, что, не уходя из современности (как это было в замысле монашества), а только обособляясь внутри ее, группировка религиозных сил должна искать внутрисебя и для себя преображения социальных от-
375
ношений. Но именно потому неверно и бессмысленно было бы пользоваться государственной властью для такой реформы: можно и должно пользоваться помощью и покровительством государства, в том объёме, в каком это определяется объективными данными, но самую работу надо вести внутри себя и для себя. Широкий исторический смысл такая работа получит лишь в том случае, если правда и сила новых форм жизни свободно привлечет к себе симпатии и сомкнет вокруг небольших групп более широкие массы. Но-это совершенно не зависит от самых групп и не может быть поставлено для них целью.
Это конечно ведет к системе культурного дуализма. Вовсе не нужно осуждать и бранить современность, но нужно во многом уходить от нее и строить жизнь по иному. Охранение (взаимное) свободы является религиозным предусловием правильности и плодотворности намечаемого пути. И то, что еще сегодня не может быть создано религиозными группами, в виду их социальной, технической, художественной слабости — может завтра привлечь необходимые для этого силы. Существенна здесь та правда, во имя которой должно, не уходя от современности, все же обособляться внутри ее, существенно подлинное и живое искание путей претворения правды Христовой в жизнь. Пусть большие массы христиан наивно сливают правду божию одни с буржуазным порядком, другие с каким-либо иным, мы, не осуждая их, будем сознавать, что современный социальный порядок, но всех без исключения своих сторонах (власть, организация социальных отношений, экономические отношения и т. д.) представляет неприемлемое сочетание неизбежного с вольным, истинного с неправедным. Отчетливая оценка современной неправды есть первое условие искания иной правды, — но осуществлять новую правду нужно не на путях подавления современной неправды (это дело государства — и пусть оно его, по силе разумения, и делает), а на путях создания оазисов иной социальной среды. Религиозные искания освященной общественности нередко сводятся к некоему номинальному и чисто декоративному изменению жизни через посредство государственных реформ. Истинный же, подлинно религиозный путь идет здесь через сво-
376
бодное собирание живых сил общества и народа, ищущих осуществления правды Христовой в общей жизни.
По уверению П. Н. Милюкова, традиционное христианство, и в особенности, Православие несоединимо с развитием свободы, ведущим к обмирщению жизни, к распаду первоначальной церковной целостности и к развитию религиозного индивидуализма. Мы не склонны отрицать известной справедливости этого в отношении к западному христианству, хотя и здесь, в отношении к католическому миру, надо не забывать о его чрезвычайной исторической гибкости и силе. Мы однако утверждаем, что в лоне Православия сохранилась, в органической и подлинной целостности, вся полнота христианских сил и даров, а самое главное — Православие, в самом своем существе — осталось тем благовестием свободы, каким было христианство с самого начала. Свобода, понятая во всей своей глубине и значении ее для жизни личности, несет свою творческую и преображающую силу лишь в Церкви — и поскольку современный мир частично или кое где даже совсем отошел от Церкви, постольку в нем сузилось и оскудело начало свободы, сосредоточившись по преимуществу на внешней стороне и обнажая пустоту одного формального осуществления ея. Тайна свободы, ее сила и ее бремя, ее творческий характер и ее аскетические предпосылки, открываются только в Церкви, ибо неложно слово, — что «где Дух Господень, там и свобода». Тема свободы, как она поставлена историей и как она развивается и защищается ее современными рыцарями, является частичной и обедненной, проблемы свободы гораздо глубже и трагичнее, чем это кажется. Как раз на почве христианства и в особенности в Православии это выступает с полной силой. Интересы христианства не просто совпадают с делом свободы в истории, но именно эти интересы христианства и все то, что христианство освобождает и пробуждает в нашей душе, ставят проблему свободы с особенной остротой, от которой современность так часто убегает. Злые замечания Великого Инквизитора в известной легенде Достоевского о том, что современным людям хочется всей той свободы, которую принес нам Христос, а вместо этого нужна очень маленькая и относительная, так сказать, «удобная» свобода, — эти злые замечания в большой мере справедливы. Дело свободы
377
нужно защищать не от христианства, а наоборот — только христианство одно и требует защиты дела свободы. То, что произошло в прошлом в З. Европе и что с каждым десятилетием все больше безвозвратно сходит со сцены, связано было с Римом. Но не только Рим меняется, но и в недрах общей культуры назрело глубокое сознание, что вне нового сближения Церкви и жизни невозможно выйти из тупиков современности. А нам, православным, особенно ясно, что подлинное творчество культуры, обновление и цветение жизни возможно теперь лишь при новом возвращении к идее и реальности церковной культуры. Церковь должна стать средоточием жизни, источником ее освящения и преображения, Церковь должна быть проводником вечной правды в самые недра и основы современности.
Но все это не означает того, что новая эпоха должна осуществляться при помощи власти, законов и декретов. Клирократия была, вероятно, единственной в свое время возможной формой теократии, но это время отошло и об этом нечего жалеть. Церковь творила доныне и дальше может творить свое освящающее действие лишь через сердца наши, в свободе вольного и всецелого обращения нашего к Богу. Есть и всегда будут, конечно такие защитники оцерковления современности, которые готовы для этого обратиться к государственной власти, а может быть и жаждут этого. Но да хранит нас Господь от таких друзей идеи церковной культуры! Лишь уважая чужую свободу, лишь опираясь на нее, можем мы собирать кругом Церкви ее истинных сынов. И в этом искании путей к церковной культуре, мы не собираемся ни проклинать современность, ни уходить от нее, — мы хотим лишь свободы и для себя, свободы организации и группирования церковных сил народа для посильного осуществления церковной идеи. Это и характеризуем мы как систему культурного дуализма: мы отвергаем принудительное объединение в обе стороны, не хотим принудительной нейтральности культуры, отвергающей право церковных сил строить жизнь, школу, культуру по заветам Церкви, — но не хотим и принудительного оцерковления современности. Мы верим только в свободу, как предусловие подлинной христианизации души и жизни, но хотим не только этой предварительной свободы, но требуем и положительной свободы творит цер-
378
ковную науку, христианское искусство, религиозно преображенную социальность. Нам нечего бояться насмешек над идеей науки, исходящей из веры в Бога мы считаем, что система натурализма дает известное право на такие усмешки, но мы ищем и другого — признание, что нет и не будет системы единой культуры, номинально нейтральной, но что имеют право на существование две системы культуры.
Я боюсь, что за право на религиозную культуру придется еще долго бороться, боюсь, что те, кто объявляют себя единственными защитниками свободы, долго будут стоять лишь за свободу для себя. Пока остается опасности повторения средневекового режима, настороженность (но не больше) понятна и уместна, но отвергать право на религиозную культуру значит только прикрывать свою агрессивную антирелигиозность высокими мотивами. Я совершенно уверен в том, что система внутреннего преследования религиозной, оцерковляемой культуры будет длиться еще немало времени, но тем больше у меня оснований верить в правду Церкви.
Я не хотел бы быть понят как оптимист. Я знаю, придет ли эпоха церковной культуры, придет ли общее и широкое развитие религиозного отношения к жизни и истории. Я скорее склонен думать, что мы таки навсегда и останемся на путях культурной двойственности, хромая, быть может, на обе ноги. Но я знаю, что всюду есть немало людей, которые богатство своих даров и всю свою творческую силу будут отдавать на то, чтобы искать приложения правды Христовой в жизни не только личной, но и исторической. И еще верю я, что ныне пришел час прославления Православия, близка эпоха, когда оно будет явлено — и если не многие поймут и заметят это, то исторический смысл и ценность такой эпохи не будет этим смят. Православие охранило благовестие свободы во Христе, и час его торжества в мире, если он придет, будет вместе с тем утверждением и цветением свободы.
В. В. Зеньковский.
379
Страница сгенерирована за 0.18 секунд !© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
