13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Франк Семён Людвигович
Франк С.Л. Легенда о Великом Инквизиторе
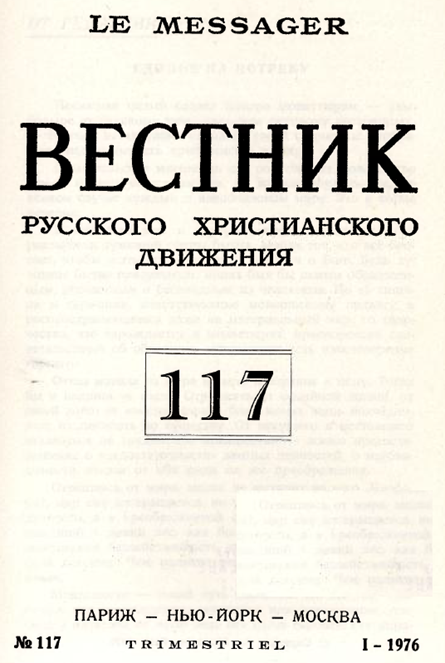
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Семен ФРАНК
ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ
От переводчика. Статья Семёна Людвиговича Франка (1877-1950) была напечатана в октябре 1933 г. в мюнхенском католическом журнале Hochland (1.1933-34). Мой отец писал ее по-немецки. Он владел этим языком в совершенстве. Поэтому русского подлинника статьи нет, и я её перевел с немецкого. Хотя анализ легенды о великом инквизиторе касается духовных вопросов вечного экзистенциального характера, статья эта также носила тогда злободневный характер. В Германии в январе 1933 г. пришел к власти Гитлер, и хотя первый период нацистского владычества еще не отличался теми апокалиптическими злодеяниями, которые разразились несколькими годами позже, мой отец сознавал страшную угрозу для всего человечества, потенциально заложенную в нацизме. Как увидит читатель, размышления С. Л. по поводу смысла «Легенды» Достоевского можно понимать как критику демонического характера как коммунистической, так и нацистской диктатуры. Так эти мысли и были истолкованы одним сотрудником Гестапо, русским немцем, который присутствовал на публичной лекции о Достоевском, прочитанной моим отцом в Берлине в начале 1934 г. «Скажите вашему отцу», шепнул он мне у выхода, «чтобы он вел себя осторожнее. Мы прекрасно понимаем, что он имеет в виду в своей лекции.» Виктор Франк (†).
«Легенда» Достоевского, вплетенная в фабулу его романа «Братья Карамазовы», принадлежит к тем великим символическим творением духа, толкование которых, как, впрочем, и толкование самой реальности, всегда останется спорным и в конечном итоге зависит от глубины и ширины духовного опыта читателя.
Содержание «Легенды» и ее непосредственный смысл известны. Христос является в Своем земном облике в Севилье XVI века в период владычества испанской инквизиции, творит чудеса и приветствуется народом в трепетном страхе и ликовании. Престарелый Великий Инквизитор велит страже взять его на глазах у толпы, привыкшей к слепому повиновению, затем ночью навещает Его в тюрьме и обращается к нему с пространной речью, в содержании которой и заключается весь смысл легенды. Содержание это состоит в резком противопоставлении Христовой идеи искупления программе спасения, задуманной Великим Инквизитором и соответствующей советам Сатаны Христу в пустыне, причем эти предложения толкуются не как искушение, а как непостижимо мудрые советы; только они — как показал опыт пятнадцати столетий — могут принести человечеству подлинное, дей-
102
ственное избавление. Вместо того, чтобы взять в основу достоинство человека и чаять спасения путем отказа ото всех внешних приманок и принуждения, путем свободно-принятого решения человека следовать Христу, надо, сознавая слабость среднего человека и из сострадания к этой слабости, прибегнуть к тем трем средствам, которые предлагал страшный и умный дух: признать действенным и убедительным могущество «хлеба» над массой, воздействовать на нее посредством «чуда, тайны и авторитета», а также захват земной власти. Только с помощью этих трех крайних средств, превращая людей в невинных, послушных детей, можно вести их к счастью и единению. Всю трагичность добровольной ответственности, весь грех принуждения и обмана должны взять на себя вожди, ради конечной пели истинного спасения масс. Конец сцены образует безмолвный поцелуй, которым Христос, слушавший Великого Инквизитора с горестным состраданием, отвечает на его речь. Потрясенный Великий Инквизитор отворяет чудесному образу дверь из тюрьмы, но предупреждает Его никогда вновь не возвращаться. «Поцелуй горит на его сердце, ио старик остается в прежней идее».
В чем же смысл этой «Легенды»? Было бы крайне поверхностным думать, как это часто делается, что речь здесь идет о критике католической Церкви. Правда, как известно. Достоевский относился к католицизму односторонне полемически, и это его отношение отразилось на внешней форме «Легенды». Но эта полемика -не только не исчерпывает смысла «Легенды», но даже не затрагивает ее ядра. Очевидно «Легенда» касается гораздо более общей духовной темы; Она охватывает собой, например, и революционный социализм, который по пророческому прозрению Достоевского несовместим со свободной личностью и неминуемо ведет к тоталитарной деспотии и даже к всеобщему порабощению (см. программу Шигалева в «Бесах»). Содержащаяся в легенде критика направлена вообще против целей той утопии, которая неоднократно формулировалась в истории человечества (от Платона до Ренана) — против намерения передать ответственность за судьбы общества в руки избранного мудрого слоя и достигнуть счастья человечества посредством деспотической власти над безответственной, воспитанной в рабском повиновении массой.
Но и все политически-философские размышления проходят мимо более глубокого смысла «Легенды». Этот смысл заложен в области чисто духовного. Он раскрывает перед нами некую извечную проблематику человеческого духа.
103
Прежде всего, важно постигнуть, что хотя автор явно согласен с одним из двух противопоставленных друг другу взглядов и борется с другим, речь идет не о поверхностной полемике, а о вскрытии внутренней антиномии. Мысль Достоевского вообще диалектична. Он знает и переживает великие вечные противоречия жизни; он знает, что человеческое сердце широко и многообъемлюще; знает он также, что то, что в конечном итоге выявляется как искушение и заблуждение, проистекает из самых глубинных потребностей человеческого естества, а, следовательно, в каком-то смысле и в какой-то форме, содержит в себе какую-то, хотя бы и относительную правду. Заблуждения или зло, которых он сам не испытал, не интересуют Достоевского. Его борение — всегда трагичное борение с самим собой. Это верно и ло отношению к соблазну, содержащемуся в тезисе Великого Инквизитора. Об этом свидетельствует хотя бы и то, что «Легенду» сочинил и рассказал Иван Карамазов — образ, в котором ярче всего отражаются те отрицания и те сомнения, через которые прошел сам Достоевский.
Главный упрек, который Инквизитор по воле Достоевского делает Христу, заключается в том, что Христос на пути Своего спасения не только не освобождает человека от проблематики жизни, от бремени свободного принятия решений, но что Он, считаясь с достоинством человека, налагает на его плечи неслыханное бремя. Но, как считает Великий Инквизитор, истинное спасение человека заключается именно в его освобождении от проблематики жизни. Ибо эта проблематика и есть то проклятие, которое тяготеет над родом человеческим в результате грехопадения. Несмотря на то мятежное начало, которое было тем самым вложено в человеческое сердце, заветной мечтой человека остается освобождение от проблематики жизни, возврат к райскому состоянию младенческой невинности и простодушия.
Таким образом, основная мысль, определяющая понимание и программу Великого Инквизитора, это идея земного рая. Спасение означает для него избавление человека от всяческого трагизма, от борьбы и междоусобицы, от сомнений п мук совести, т. е. осуществление и увековечение наивного, простодушного младенческого самосознания, находящегося по ту сторону добра и зла. Мечта о рас на земле, которая представляет собой как бы restitutio in integrum, восстановление первоначальной абсолютно гармонической райской жизни, в которой по-
104
следствия грехопадения попросту аннулируются и отметаются, образует —по личному опыту Достоевского — глубочайшую, сокровенную мечту человеческого сердца. Это тяготение Достоевский излагал неоднократно — и не только в «Легенде о Великом Инквизиторе». В «Подростке», например, главный герой романа, Версилов, предсказывает конечное состояние умирающего человечества: после утраты веры в Бога и идеи бессмертия, человечество охватывает чувство отчаяния, сиротства и предчувствие близкого конца, а отсюда доброта и нежность; страх и жалость друг к другу объединяет людей, которые тем самым обретают под конец грустно-мирное счастье, как бедные, но все же блаженные дети (полная аналогия с развитой Ницше впоследствии в «Заратустре» картиной «последних людей», но без характерного для Ницше презрения к людям). С величайшим восторгом как об исполнении последнего вожделения, мечты о земном рае, о блаженстве младенческой невинности и детского незнания, говорит Достоевский о двух «подлинных» снах — о сне Ставрогина («Бесы») и, в особенности, в рассказе «Сон смешного человека», в одном из глубочайших творений Достоевского. В качестве негативного контрапункта сюда же относится еще одни сон, сон Раскольникова о странной душевной болезни, поразившей людей, при которой люди, одержимые каждый своей особой верой в добро и зло, истребляют друг друга в страшных религиозных войнах, во всеобщей анархии --как бы картина ада на Земле, прямо противопоставленная сну о земном рае.
Всем этим описаниям земного рая присуща одна общая черта: это — идеальное состояние достигается ценой отказа от творческой тревоги духа. Достоевский не скрывает от нас, что достижение этого райского состояния требует сознательного самоограничения духа, решительного признания духовной неполноценности и незрелости человека. «Нет, широк человек, слишком широк. Я бы его сузил» говорится в «Братьях Карамазовых» при размышлении о страшной божественно-демонической природе эротической красоты. Истинное блаженство лежит только в возврате к младенческой невинности — а для духовно зрелого человека это означает отказ от духовного достоинства. Оно требует возврата к первоначальному состоянию; это движение реакционное в глубочайшем, духовном смысле этого слова. Человек каким-то образом заблудился; он должен вернуться к исходному пункту, где он знал блаженство, потому что не был наделен духом или творческим стремлением.
105
Таким образом, дух противостоит покою и блаженству. Ибо дух есть тревога и мука, подрывное начало, делающее человеческую жизнь проблематичной, превращающее ее в трагедию, влекущую за собой муки свободной ответственности и внутреннего принятия решений. Соблазн огромной, почти неотразимой силы заложен в мысли, не является ли это мучительное брожение каким-то заблуждением, от которого человек может попросту освободиться как от ненужной и зловредной обузы. Разве противоположное состояние простодушного, недуховного блаженства и покоя не образует единственной и конечной цели человека, к которой влекут его прирожденный природно-животный инстинкт и религиозная тоска его сердца? Сны о земном рае — явное свидетельство о том, что Достоевский сам остро испытал соблазн этой идеи и признался в этом с присущим ему духовным мужеством.
Одновременно, однако, он познает — с огромной, быть может, еще небывалой дотоле силой — потенцию, противостоящую этому почти непреодолимому соблазну. Есть в человеческом сердце темная, непостижимая сила, еще более мощная, чем тяга к спокойному блаженству. Это — сознание собственной свободы, в смысле внутренней иррациональности и творческой тревоги. Оно то и образует глубочайшее естество человека. Эта чистая, неопределенная потенция, это незавершенное, всемогущее в человеческом духе, эта способность ставить самому себе цели и определять по собственному усмотрению направление своей жизни — разве это непостижимое, иррациональное свойство не есть высочайшее, единственное достояние человека, от которого он просто не может отказаться, не совершая акта самоубийства, потому что оно совпадает с его существом как человека. Человек стремится не к счастью и не к покою. В конечном итоге он стремится только к возможности жить воистину как человек, т. е. осуществлять самого себя по своему усмотрению, во всей иррациональности и бессмысленности своей природы. Это безоговорочное восстание против всего нормативного и разумного в жизни, во имя достоинства и незаменимости анархического принципа, Достоевский провозглашает словами угрюмого, ожесточенного человека, героя «Записок из подполья». Предположим, говорит он, достигнуто последнее совершенство гармонии, благоразумия и справедливости в жизненном распорядке людей. Разве не появится тогда нахальный чудак, который скажет: «А не толкнуть ли нам все это благоразумие с
106
одного разу, ногой, прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту, и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить?». Причем у этого нахала непременно найдутся последователи. Ибо величайшее благо, к которому стремится человек, самая «полезная польза», которая опускается всеми благоразумными людьми в их расчетах полезности, состоит в том, чтобы он мог каждое мгновение сознавать себя подлинным человеком, а не клавишей фортепиано, на котором играет кто-то другой.
С точки зрения этой врожденной потребности к неограниченной внутренней свободе, тяга к простодушному блаженству, как к абсолютному покою духовного равновесия — ничто иное как выражение апатии, тяготения к духовной смерти. Правда, говорится в речи Великого Инквизитора, что люди — прирожденные бунтари, но бунтари слабые, трусливые, рабские. Больше всего их страшит бремя их собственной ответственности; они — стадные животные, которым дает удовлетворение только подражание, однообразие приписанного всем мышления. (В другом месте Достоевский как-то говорит, что распространенный между людьми страх перед собственным мнением — самое дьявольское искажение человеческого духа.)
Истинный смысл «Легенды о Великом Инквизиторе» познается только в свете этой великой антиномии между младенчески-простодушным блаженством и свободной духовностью. Прежде всего, представление о земном рае обогащается здесь одной важной чертой. Достоевский приходит к заключению, что идеал земного рая, как всеобъемлющего состояния, к которому причастны все люди, вообще неосуществим. Ибо к этому идеалу человека нужно вести, как ко всякому идеалу. Сам же ведущий должен ставить себе эту цель свободно, по собственному внутреннему решению; таким образом, он должен оставить за собой и развивать в себе свободную духовность, прямо противостоящую простодушному блаженству. Так человечество распадется на меньшинство вождей — людей свободных, избирающих добро или зло по внутреннему убеждению, и на подавляющее большинство, образующее послушное стадо счастливых рабов. Для того, чтобы масса человечества достигла этого райского состояния на земле, избранное меньшинство вождей должно взять на себя трагизм духа во всей его тяжести. Человечество только тогда может вкусить блаженство младенческого простодушия, когда оно вос-
107
питано в духе слепого повиновения ничем не ограниченной власти.
Удел павшего человека — трагика познания добра и зла, необходимость нести ответственность за собственную судьбу — таким образом, в сущности, неизменим. Единственное, что можно сделать — это уберечь большинство, то есть рядового человека, от этой трагики, за счет меньшинства, вынужденного возложить на себя это бремя. Более того, с этой целью ведущее меньшинство должно было бы, помимо бремени принятия самостоятельных решений, добровольно взять на себя еще и грех обмана и принуждения других. Ибо цель, то есть рай земной для всего человечества, достижима лишь при помощи принуждения и обмана, а предпосылкой к этому является пренебрежение к личности большинства людей.
Так обнаруживается трагическая диалектика всякого стремления к простодушному блаженству. Состояние младенческой, не затронутый духом невинности по ту сторону добра и зла, по своей сути предполагает величайшую, граничащую с бесчеловечностью напряженность самовластной духовности, предпосылает взятие на себя греха, вступление на путь, который предлагает нам «страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия». Глубочайшая суть этого греха состоит в презрении к человеку: ибо сожаление о нуждах человечества и выводимая отсюда версия его избавления, освобождения человека от бремени принятия свободных решений основывается на убеждении, что бремя это ему не под силу, что человек — это существо слабое, безрассудное и нуждающееся в покое и опеке. Иными словами, преследование цели блаженного неведения для большинства людей требует уничтожения человека как образа и подобия Божия, требует, так сказать, убийства его духа.
Как же обстоит дело со вторым звеном антиномии — с иррационально-анархической свободой, которая есть своего рода главный признак человека как одухотворенного существа? Истинную антиномию никогда нельзя разрешить путем безоговорочного отрицания наличия одного звена и признания закономерности другого звена. Достоевский далек от того, чтобы безоговорочно утверждать ценность анархически-мятежной свободы. Он до самой глубины разглядел присущую ей диалектику. Ряд трагических персонажей его книг — Раскольников, Ставрогин и Кириллов, а также Иван Карамазов, задуман с тем, чтобы свидетельствовать об этой диалектике. Нагое, лишенное содер-
108
жание понятие свободы неизбежно перерастает в сознание себя сверхчеловеком, в убеждение, что «смелому все позволено, что ему нигде нет преград» (Достоевский определяет это понятием «Человеко-бога», в противоположность к «Богочеловеку» — Христу). Диалектика подобного понимания свободы в сверхчеловеке состоит, однако, в том, что абсолютная духовная безграничность, которая, казалось бы, сулит человеку неисчерпаемое богатство, в действительности лишает его всякой внутренней опоры, опустошает и растворяет его существо. Из чистой, бесформенной потенциальности нет исхода, нет перехода к позитивному принятию решений. Абсолютный произвол равен для человека абсолютному бессилию, поскольку он лишает его твердой почвы под ногами. В качестве абсолютного принципа элементарная свобода сама по -себе оказывается демоническим потенциалом небытия и саморазрушения.
На выход из этой дилеммы имеется намек в обращенных к Христу словах Великого Инквизитора: «Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за Тобой, прельщенный и плененный Тобою». Свобода, а именно элементарная свобода чистой духовности, способность преодолевать пределы собственной личности, есть неотъемлемая предпосылка духовной и творческой жизни, ибо она есть то единственное, ничем не заменимое состояние, при котором Бог касается человеческого сердца, а человек соприкасается с Богом. К этой предельной глубине .человека и обращается Бог. Но -свобода становится плодотворной и ведет от потенциальности к положительной актуальности лишь тогда, когда человека воспламеняет любовь, то есть непосредственная любовь к Богу, как к абсолютно прочному началу, красота которого «пленяет и прельщает» человека. Свободно избранная любовь, внутренняя «плененность и очарованность» —вот синтез, превозмогающий противоречие между принуждением извне и безграничной свободой, то, что Гегель называет «aufgehoben». Тем самым устраняется и антиномия идеалов младенческого бесхитростного блаженства и свободной духовности. Преодолеть проклятие, лежащее на человеке со времени грехопадения, после того, как он вкусил плод от древа познания добра и зла, не в силах ни бездумное блаженство простодушия, ни замкнутое в себе самом беспредметно свободное волнение духа. Напротив: само по себе и то и другое демонично. Ибо повсюду, где человек ищет высшего совершенства в самом себе, отрешась от Бога — будь
109
то ради младенческого простодушия и блаженства, будь то ради сверхчеловечности, человеко-божественности — повсюду человек поддается соблазну, ступает на обманчивый путь, ведущий к его погибели.
Широкого, легкого пути в рай земной, по которому блаженства можно достичь непосредственно, без труда — такого пути не существует. Человеку не избежать груда и тревоги духовной борьбы, потому что в этом и состоит достоинство и богоподобие человеческого существа. Борьба же эта — в ее замкнутой, изолированной форме, ничто, кроме бесплодной, пожирающей и уничтожающей человека тревоги не дающая — становится творческой, коль скоро ее преображает добровольная любовь к Богу, дарующая человеку твердую опору. Истинный путь — это не отрицание наличия добра и зла, как бы некоего ненужного, воображаемого бремени. Но этот путь, и не в мрачно гордом восстании против наличия добра и зла. Путь этот — преодоление их трансцендентности, когда добро и зло правят человеком как чуждые силы посредством принуждения, приказаний и запретов. Преодоление трансцендентности, одновременно с которым достигается и свобода и блаженство, коренится в любви — а именно в любви к Богочеловеку, в «свободной плененности» Его красотой. Богочеловек — то есть одновременно и Бог, и человек — сочетает трансцендентное с имманентным, выводит человека из его изоляции и состояния покинутости Богом — безо всякого принуждения, без отрицания свободного, творческого естества человека. Здесь, в его свободной, творческой духовности, не ограниченной и не связанной ничьей властью, и происходит августиновское transcende te ipsum, спасательное самоопределение человека, ведущее его к истинной, положительной свободе и блаженству.
Этому истинному, но узкому пути, следовать которому призывает человечество Христос, противопоставлен обманчивый широкий путь Великого Инквизитора. Неправильность этого второго пути — в чем и состоит глубочайший смысл, приданный «Легенде» Достоевским — объясняется в конечном итоге тем, что этот путь основан на взаимодействии обоих вышеупомянутых демонических явлений. Оба эти явления — демоничность сверхчеловека и демоничность блаженства при условии духовного порабощения, самоуничтожения, обуславливают друг друга. Считая себя сверхчеловеком, идя сверхчеловеческим путем, требующим от него презрения к остальному человечеству — именно этим
110
оправдывает Великий Инквизитор свое намерение вести человечество к тупому блаженству духовного самоуничтожения; отсюда же он черпает и свою уверенность в достижимости этой цели. Однако, если человек, именно будучи человеком, не готов нести ответственность за собственную духовную борьбу и самоопределение, не внимая при этом призывам Бога к истинному спасению, без уважения к достоинству каждого человека — то он поддается соблазну в виде двойной, взаимосвязанной демоничности: сверхчеловечность с одной стороны и пребывание в блаженно тупом состоянии порабощенности — с другой. Познание взаимосвязанности этих двух видов демоничности проливает свет на непосредственную тему «Легенды»: проблематичность возможности осчастливить человечество, разделив его на ведущих и ведомых. Правда, быть ведомым — божественный принцип: он необходим человеку, потому что, будучи предоставлен собственной изоляции он обречен на самоуничтожение. Однако истинное, окончательное ведение человеком есть ведение его Богом, вернее Богочеловеком, который взывает к каждой человеческой личности, созданной по. образу и подобию Божию, для того, чтобы человек умел сам собой руководить. А это, опять-таки, возможно лишь с помощью Богочеловека. Всякое иное руководство человеком — при помощи авторитета, строгости, воспитания, привития ему порядка и дисциплины — все это хорошо, необходимо, полезно — но только при условии, что это руководство основано на первичном ведении человека Богом, выводит оттуда свою власть и компетентность. В любом другом случае — это демоничность. И Алеша Карамазов правильно определяет то, в чем Достоевский открыто признается устами Ивана: в зловредности Великого Инквизитора. Алеша разгадывает его единственную тайну, а именно то, что Инквизитор не верует в Бога.
(Перевод статьи был сделан Виктором Франком. К сожалению последние страницы перевода были потеряны. Последняя часть статьи — со слов “удел павшего человека” была переведена Наталией Алексеевной Берггаус в Мюнхене в октябре 1975 г.). Т. Франк
111
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
