13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Лосский Владимир Николаевич
Лосский В.Н. Александрия
Файл в формате pdf взят на сайте http://www.btrudy.ru/archive/archive.html
Правообладателем разрешена публикация только на нашем сайте.
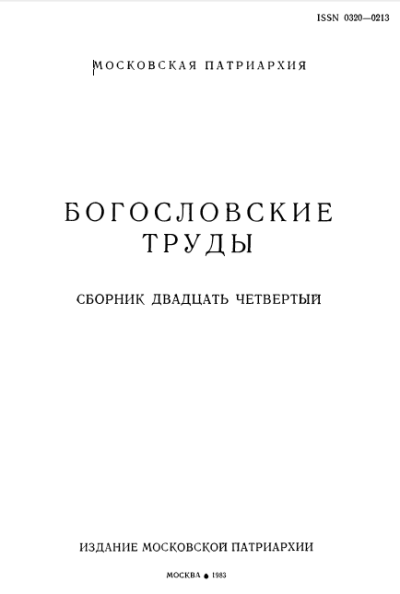
Разбивка страниц статьи соответствует оригиналу.
Вл. ЛОССКИЙ
АЛЕКСАНДРИЯ*
С угасанием эсхатологического духа, характерного для двух пер-вых веков христианской эры, учение о тысячелетнем царстве, или хилиазм, постепенно исчезает. В третьем веке против него ведется упорная борьба, главным образом в Египте, сначала Оригеном, а затем его учеником св. Дионисием Александрийским. Причину, по которой эти чаяния грядущего царства живущих на земле в соединении с Богом праведников начинают казаться лишенными смысла, не следует искать только в наивно-материалистическом характере, который они иной раз принимали, как, например, у Папия, против чего возражал св. Ири-ней, — или же в экстравагантных претензиях дискредитировавших хилиазм сектантов монтанистов. Растущую оппозицию против учений о возникновении некоей новой эры, отмеченной новым и очевидным Божественным проявлением, можно лишь отчасти объяснить аллегорическим образом мыслей, свойственным молодой христианской школе Александрии, не хотевшей быть связанной одной только иудейской «буквой» и искавшей в священных текстах их духовный смысл. И если идею о некоем новом этапе приобщения Богу в образе грядущего царства праведников и отстраняли, то делалось это с целью показать, что путь к степеням этого совершенства открыт христианам уже и в настоящем, в духовной жизни, посвященной созерцанию Бога. Подобный идеал созерцательной жизни по своей форме слишком напоминает, по крайней мере при своем возникновении, эллинскую мудрость, в особенности же когда созерцание, как состояние наисовершеннейшее, самоцель христианина, противопоставляется деланию.
Протестантский богослов Андерс Нигрен, о котором мы уже упоминали в предыдущей главе, видит здесь результат подмены христианской «агапи» языческим «эросом». «Не заметили того, — говорит он,— что между эсхатологическим видением Бога... и мистическим Его созерцанием пролегла бездна и что первое и выражает совершенную реализацию христианского Богообщения». Таким образом вся христи-
___________
* Третья глава из книги: Vladimir Lossky. Vision de Dieu. Neuchatel (Suise), 1962. Перевод с французского. Предисловие к этой книге проф.-прот. Иоанна Мейендорфа напечатано в «Б. тр.», 8, с. 231—232; глава I: Предание отцов и схоластика, и глава II: Боговидение в библейском образе мысли и богомыслии отцов первых веков,— напечатаны в «Б. тр.», 18, с. 118—135; глава VIII: «Ви́дение Бога» в византийском богословии и глава IX (последняя в книге): Паламитский синтез,— напечатаны в «Б. тр.», 8, с. 187—203.
214
анская мистика представляется ему отклонением от первохристианских учений, она — их платоническое искажение.
Независимо от Нигрена к таким же выводам об идеале созерцательной жизни приходит и о. Фестюжьер. В своей статье «Аскеза и созерцание»1 он говорит: «С начала III века параллельно традиции характерно христианской наблюдается влияние иной традиции, в которой идущее от Иисуса смешивается с элементами языческой мудрости и порой ею полностью поглощается. Истоки этого движения совершенно очевидны: это — Александрийская школа, Климент и Ориген»2. И о. Фестюжьер на этом не останавливается: он, как и Нигрен, хотя и с оговорками, видит почти во всей умозрительной мистике последующих веков результат синтеза, симбиоза между Афинами и Иерусалимом. «Можно легко проследить звенья этой цепи: на Востоке — это учители созерцания Евагрий, Григорий Нисский, Диадох Фотикийский, Псевдо-Дионисий, на Западе — Августин, и — в том, в чем он следует за Августином, — Григорий Великий»3.
Когда в дальнейшем мы будем рассматривать учение о Богови́де-нии Григория Нисского, Диадоха и Дионисия, то попытаемся дать себе отчет, в какой мере мы можем согласиться с тезой о. Фестюжьера. А пока ограничимся беглым рассмотрением темы Богови́дения у великих Александрийских учителей — Климента и Оригена, в которых о. Фестюжьер и видит основоположников того, что он называет «философической духовностью». Он определяет ее следующим образом: «Это — мистика интеллектуальная или сверхинтеллектуальная, которая приводит к образу жизни исключительно созерцательному, не оставляющему ни малейшего места действованию, даже если последнее движимо любовью. Быть совершенным — значит созерцать, а созерцать — это видеть Бога ви́дением непосредственным»4.
* * *
Климент Александрийский родился около 150 года; он преподавал в Александрии вплоть до 203 г., когда гонения Септимия Севера принудили его покинуть этот город. Скончался он примерно в 215 г. Основные его труды «Протрептик», или «Увещание эллинам», где он обращается к внешним, к язычникам, затем «Педагог», предназначенный оглашенным или нуждающимся в поучении простым верующим, наконец «Строматы», составленные как мозаика из разнородных подчас частей и содержащие в себе как бы начатки учения для христиан более сознательных.
В этой заботе распределить свое учение в зависимости от степени совершенства читателя проступает известный эзотеризм, и Климент иной раз выражает свою мысль терминами, сознательно заимствованными из языческих мистерий. Так, он отмечает, что греческие мистерии начинаются с очищения, которое аналогично христианской исповеди. Затем следует посвящение в «малые мистерии» (μικρα μυστηρια), как бы обучение или научная подготовка к «великим мистериям» (μεγαλα μυστηρια) или тайнам, когда уже не обучаешься, а созерцаешь данные реальности. Это — εποπτεια, высшая ступень христианского посвящения, Богосозерцание, достижимое путем анализа. Климент дает нам пример подобного интеллектуального действия, завершающегося созерцанием.
Исходя из какого-нибудь тела, мы производим ряд абстракций и прежде всего упраздняем его физические качества. Остается опреде-
215
ленная протяженность. Устраняя измерения высоты, ширины и длины, мы получаем точку, занимающую известное пространственное положение, известную единицу, некую умопостигаемую монаду. Если затем мы отбросим всё, что может быть свойственно существам как телесным, так и безтелесным, то мы «ринемся» (απορριψομεν) в величие (μεγεθος) Христа; если же от величия посредством святости перейдем к «бездне» (βάθος), то обретем известное познание Бога «Вседержителя» (Παντοκρατωρ), познавая не то, что Он есть, а то, что Он не есть5.
Этот текст Климента, в котором мы видим как бы наметки отрицательного— апофатического — пути Богопознания, напоминает аналитическое рассуждение, которое спустя шестьдесят лет после Климента опишет в своей 6-й Эннеаде Плотин. Его путь интеллектуальных абстракций, путь «упрощения» (απλοσις) или сведения к единому, также приводит к известному опыту, экстатический характер которого у Плотина выражен более ярко, нежели у его христианского предшественника. У Плотина всякое познание упраздняется в состоянии экстаза, где нет больше ни субъекта, ни объекта, а только опыт совершенного отождествления с Единым. Но создается впечатление, что когда Климент предлагает познавать Бога в том, что́ Он не есть, он все же остается в сфере интеллектуальной, хотя прежде чем дойти до этого негативного познания и следует —как он говорит — перейти за грань монады умопостижимой, «ринувшись в величие Христа», дабы затем «путем святости» достичь бездны Отца. Место это несколько туманно. Пока мы касаться его не будем. Но одно нам ясно: здесь речь идет о таком созерцании, которое, вместе с о. Фестюжьером, мы можем отнести к мистике интеллектуальной или сверхинтеллектуальной.
Объектом подобного созерцания является Бог, Который Единое превосходит, Который превыше единства6. Все понятия, которые можем мы о Нем иметь, — «не имеют формы»7. Действительно, к Нему не приложимы ни род, ни различие, ни вид, ни индивид,— ни одна из всех логических категорий. Он — и не акциденция, и не то, к чему акциденции прилагаются. Он — и не целое, и не часть. Можно сказать, что Он бесконечен, ибо у Него нет измерения; Он не имеет ни вида, ни имени. И если мы неискусно и называем Его — Единое, Благо, Дух, Само-бытие, Отец, Бог, Творец, Господь,— то вместо того, чтобы Его именовать, мы, чтобы сосредоточить свою блуждающую и сбивчивую мысль, пользуемся именами самыми прекрасными, какие только можем найти для вещей нам знакомых8. Если Бога познать трудно, то выразить Его невозможно». Это в своем «Тимее» говорит Платон, потому что Платон читал Библию (Климент никогда не сомневался в том, что и Пифагор, и Платон, и стоики, все они обретённое ими знание о Боге позаимствовали в священных книгах евреев). Поэтому Платон, зная о восхождении Моисея на гору Синай, знал и то, что путем «святого созерцания» Моисей смог достичь самой вершины умо-постижимого9. Чем же еще могло это быть, как не столь трудно постижимой «сферой Бога», которую Платон называет «сферой идей», узнав от Моисея, что Бог есть сфера, ибо Он полностью всё в Себе содержит10. Обнаружить Его мы можем чистым и внетелесным взлетом мысли только издали, как бы в зеркале, а не лицом к Лицу11. Итак, в образе мыслей Климента Александрийского философия Платона и священный текст составляют неразделимую амальгаму и друг друга дополняют, взаимно друг друга раскрывают.
216
Поднявшись до вершин сущего — до «идеи», мы можем мысленно охватить то, что их превосходит, то есть Благо (αγαθον), достигая таким образом самого предела умопостижимого, согласно Платону12. Взойдя на эти вершины, Моисей вступает в мрак (γνοφος), идет навстречу Невидимому и Неизреченному. Мрак означает неверие и невежество толпы, которая неспособна к познанию Бога. Действительно, св. апостол Иоанн говорит нам, что «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, Который в лоне Отца, Он явил». Лоно Отца и есть то Невидимое и Неизреченное, которое Моисей встречает во мраке. Поэтому некоторые и называют Его βάθος — глубиной, бездной, ибо Она всё содержит и всё объемлет в Своем лоне. Это и есть объяснение того неясного места, которым Климент заканчивает путь интеллектуального анализа порывом в «величие» Христа, от Которого нужно дойти до «бездны» Отца Вседержителя, Самого по Себе неуловимого и бесконечного. Таким образом климентовское «величие Христа» соответствует той «сфере идей», той вершине, до которой Платон сопровождает Моисея. Отсюда «святостью» достигаешь бездны Невидимого и Неизреченного. Не есть ли эта «святость» то αγαθον, платоновское Благо, превышающее сферу идей? Как бы то ни было, но Моисей стоит перед Богом «Нерожденным», перед «Неведомым Богом», проповеданным апостолом Павлом афинянам, Богом, познаваемым только божественной благодатью и Словом, Которое «у Бога»13. Если Моисей просит Бога Себя ему явить, то делает это потому, что Бог дает ему знание о Себе только через Свою силу. «Всякое интеллектуальное искание — сомнительно и слепо без благодатного познания, идущего от Бога через Сына»14.
Можно было бы ожидать, что теперь Платон отступит перед Моисеем, что спекулятивное мышление философа затмится перед откровением Живого Бога, сообщающего Свою благодать через Сына. Однако в богомыслии Климента именно Платон разъясняет нам, что же есть благодать; Бога можем мы познать только по подаваемой Им добродетели. Ведь Платон, — говорит Климент, — упоминает в своем «Мено-не» о некоей подаваемой Богом добродетели, которая посылается нам «божественным жребием». Это собственно и есть «способность к познанию» 15. Здесь мы в сфере александрийского образа мыслей, в самом очаге мышления эклектического и синкретического, в котором уже издавна религия откровения вычурно сочеталась с элементами эллинистического умозрения. Еще за пятьдесят лет до Климента Александрийского Филон Иудей говорил о силах (δυναμεις), в которых Бог открывался Моисею, в терминах платоновской философии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в представлении вскормленного греческой философией христианского учителя Боговидение соответствует состоянию описанного Платоном совершенного созерцания «Вечносущего».
У Климента христианское совершенство состоит в познании Блага и уподоблении Богу16. Цель христианина — познать или увидеть Бога17. Совершенный гносис есть вечное созерцание — αιδιος θεωρια18 и в этом смысле он — выше веры. Если, отходя от язычества, мы обращаемся к вере, то от веры должны восходить к гносису 19. Чтобы обладать познанием, недостаточно быть христианином; дар этот следует умножать жизнью, посвященной созерцанию, путем отсечения страстей и достижения состояния бесстрастия. В устах Климента аскетический
217
идеал такого бесстрастия не очень отличается от бесстрастия стоиков: только совершенный христианин, достигший бесстрастия, обладает даром знания, он — истинный гностик. Необходимо тут же отметить, что климентовский гностик не имеет ничего общего с теми еретиками, которых называют «гностиками» и которых Климент бичует как «псев-до-гностиков». Поэтому, по мысли Климента, христианские гностики — не какая-то отдельная «каста», отличная по своей духовной природе от остальных людей, которые или обязательно телесны, или обязательно душевны. Истинные гностики — это христиане, достигшие совершенства, предложенного всем без исключения упражнением в созерцательной добродетели. «Гностик, — говорит Климент, — поскольку он любит единого истинного Бога, — человек совершенный, друг Бога, поставленный в достоинство сына». Названия благородства, познания, совершенства проистекают от Богови́дения, высочайшего преимущества, дарованного душе гностика, ставшей совершенно чистой, удостоившейся, как говорит Писание, вечного видения Бога лицом к Лицу, видения Бога Вседержителя20. Это есть видение Бога Отца — Того Бога Невидимого, той Бездны, которая содержит в Своем лоне величие Слова со всем миром идей. Оно предуготовано для «чистых сердцем», для гностиков, достигших предельного совершенства. Но мало кто может дойти до глубин гносиса21. Большинство людей питается молоком, знанием несовершенным, катехизисным, верой людей простых и телесных. Твердая же пища — достоверное откровение Будущего Века, видение лицом к Лицу22. Оно немыслимо на земле, и один только гносис может дать его посмертно.
Однако от описанного Климентом гностика у нас создается впечатление, что уже в земной жизни он наслаждается совершенным знанием, в котором уже и не остается места для тайны23. Примерами истинных гностиков Климент считает Иакова, Петра, Павла и других апостолов. Гностик — всё знает, всё понимает, даже и то, что другим кажется непонятным24. Не есть ли гносис способность разумной души подвизаться в познании и таким образом обеспечивать человеку бессмертие? 25.
Итак, в представлении Климента созерцание является высочайшим блаженством и в это созерцание вовлечена почти что одна только интеллектуальная сторона человека. Это блаженство равнозначно знанию, и нам представляется, что очень далеко отошли мы от эсхатологического Боговидения такого отца Церкви, как св. Ириней, и что в самой идее блаженства произошло какое-то расщепление: с одной стороны— нетленная жизнь блаженных, соучастников превечного света Отца, распространяемого Христом прославленным; с другой — этот гносис, это интеллектуальное созерцание, это постижение Непостижного, которое Климент превозносит как самоцель совершенных христиан. Действительно, мы не можем не видеть этого расхождения между Живым Богом Библии и Богом платоновского созерцания, расхождения, раскалывающего саму полноту вечного блаженства, когда мы слышим такое высказывание Климента: «И я дерзну сказать, что тот, кто занимается гносисом ради самой божественной науки, ее не постигнет, если он думает о своем спасении. Разум, в силу свойственного ему качества, всегда старается быть в действии, и этот всегда действующий разум, ставший, благодаря своей непрерывной напряженности, сущностью гностика, преобразовывается в вечное созерцание и превра-
218
щается в живую субстанцию. Поэтому, если бы гностику предложили выбор между познанием Бога и вечным спасением, предполагая, что это — вещи различные (по сути же дела они — совершенно тождественны), он без всякого колебания выберет Богопознание26.
Как бы Климент ни оговаривался, созерцание Бога и вечное спасение оказываются у него здесь разделенными, хотя бы и мысленно, и гносис превознесен над спасением. И хотя он и говорит, что вера возводит нас к гносису любовью (αγαπη), любовь эта в будущем веке перед гносисом упразднится и именно гносис займет то исключительное место, которое апостол Павел предназначает «αγαπη» — любви. Понятие климентовского гносиса напоминает нам некоторые места из «Поймандрес», появившегося в Египте собрания сочинений так называемых «герметических», в которых знание представляет из себя некую обожествляющую форму, посредством которой поднимаешься к сфере неподвижных звезд27. Само мышление, от божественной сущности неотделимое, приводит людей к Богу28, таким образом мы обретаем спасение путем знания, превышающего веру. Климент упоминает о писаниях Гермеса Трисмегиста29, но никогда, насколько мне известно, на них не ссылается. И если он неясно формулирует свое учение о видении божественной сущности, то это происходит оттого, что тогда, для обозначения единой природы трех Лиц, термин «усия» не вошел еще в употребление. Однако в Богомыслии Климента мы находим все доктринальные элементы, позволяющие утверждать возможность созерцания божественной сущности. Для Климента божественная сущность равнозначна бездне Вседержителя.
Таким образом, тема Богосозерцания, которая неизбежно должна была возникнуть в христианском мышлении, первоначально выступает в формах, еще не освободившихся от влияний, чуждых христианскому вероучению. Климентовские гностики, составляющие внутренний,— хотелось бы сказать «эзотерический» — круг в Церкви, в его образе мыслей соответствуют христианам, достигшим совершенства, святым, пребывающим в непрестанном общении с Богом. Их жизнь почти что неизбежно должна заканчиваться мученичеством. И здесь мы узнаём идеал святости, свойственный христианам эпохи гонений. Но портрет гностика не списан с натуры: он не отражает типа конкретного святого. Это — литературная фикция, где Климент облачает в христианский наряд образ того интеллектуального созерцателя, которого он нашел вне жизненного опыта Церкви. И только конкретная реализация аскетической жизни вытеснит эту платоническую утопию практикой созерцания чисто христианского, которое в новом аспекте снова будет соответствовать эсхатологическому видению св. Иринея.
* * *
Мысль Оригена (около 185—254 или 255) сравнительно с Климентом, чьим учеником он был некоторое время в Александрийской дида-скалии, более четка, менее расплывчата. Климент — прежде всего моралист; Ориген — богослов, экзегет, апологет и учитель аскетической жизни. Для него христиане тоже разделяются на две категории: одни — верят, другие — знают. Однако каждый христианин должен стремиться к познанию. Итак, Откровение относится как к простым, так и к совершенным. Одним оно дает учение нравственное, другим дает «гносис», учение о Троице или «теологию»30. Бог открывает Себя
219
в священном тексте Писаний по мере того, как мы отрываемся от его буквального смысла — иудеям только он и доступен, — чтобы проникнуть в его духовный смысл, открытый христианам. Но и здесь существуют градации. Когда апостол Павел обращается к Коринфянам как «не знающий» и желающий проповедовать одного только Христа распятого, он обращается к простым. И, наоборот, когда апостол Иоанн в прологе к своему Евангелию говорит о божественном Логосе, он обращается к тем, кто способен познавать31. В общем, то, что относится к человечеству Иисуса Христа — принадлежит икономи́и (домостроительству) и предлагается вере простых; то, что относится к Божеству— есть область богословия и предназначается для совершенных, для способных к созерцанию.
Эти две различные стадии совершенствования осуществляются в двух различных образах жизни: в жизни деятельной и жизни созерцательной. (Различие это заимствовано у стоиков.) Ориген первый сделал из Марфы и Марии, в повествовании евангелиста Луки, образы жизни деятельной и жизни созерцательной32. «Деятельные» занимают внешний двор храма, «созерцающие» входят в Дом Божий33. Различные части Иерусалимского храма соответствуют степеням совершенства в познании. Так, двери, отделяющие внешний двор от святилища — суть двери познания: это — первое созерцание, созерцание существ телесных и бестелесных. Святое Святых есть познание Бога 34. Итак, христианам надо пройти три этапа: первый — это πρακτικη (делание)— борьба за бесстрастие (απαθεια) и любовь; второй — φυσικη θεωρια (естественное умозрение) — познание тайн сотворенного, и третий— θεολογια (богословие)—познание Бога в Логосе. Ориген был прежде всего экзегетом, поэтому он обращается к Священному Писанию и предлагает проходящим первый этап — Притчи, как советы нравственные; проходящим второй этап — книгу Экклесиа-ста, раскрывающую тщету существ тварных и понуждающую искать познания Бога — и, наконец, третьим — Песнь Песней, которая, воспевая брак человеческой души с Логосом, учит созерцанию Бога.
Именно эта третья ступень, область «теологии» прежде всего нас и интересует в исключительно богатом и сложном Богомыслии Ориге-на. Что же, собственно, представляет собой эта «теология», познание Бога в Логосе, которое для Оригена одновременно есть и Богосозер-цание, и высочайшая ступень христианского совершенства?
Совершенство есть уподобление Богу. Философы, конечно, тоже это говорили. Но не сами нашли они эту истину: они позаимствовали ее из священных книг евреев, где в книге Бытия Моисей повествует о том, что человек был сотворен по образу и подобию Бога. «Образ» нам уже дан; «подобие» же есть возможность достигать совершенства, которое обретет всю свою полноту лишь по окончании времен, когда Бог будет «всяческая во всех»35. Ориген далее определяет это состояние совершенства: «Бог будет всем во всём» означает, что Он будет «всем» даже в каждом из нас. И в каждом будет Он «всем» в том смысле, что всё, что может чувствовать, понимать или мыслить ум, очищенный от всякой греховной скверны, омытый от всякого лукавства,— было бы Богом; чтобы не видел он ничего иного кроме Бога, чтобы Богом он обладал, чтобы Бог был для него модусом и мерой всех его движений; таким образом Бог и будет «всем»36. Это и есть обо́женное состояние, то соединение с Богом, которое осуществляется путем исключения вся-
220
кой иной цели совершенствования, Бог так становится «всем», что ум человека ничего другого, кроме Него, уже не знает. Если ум человека, по слову апостола Павла, на которое часто ссылается Ориген, становится «единым умом с Богом», то это именно потому, что в полноте своей сознательности ум «охватывает» Бога, Который и становится единственным его содержанием. Обожение совершается через созерцание. Бог становится «всяческая во всех» путем Его познания каждым человеком в отдельности.
Естественно, что такое познание неотделимо от любви. Ориген был слишком хорошим экзегетом, чтобы не помнить места, занимаемого любовью (αγαπη) в Боговидении святых апостолов Иоанна и Павла. По мере возрастания познания, всё сильнее и сильнее возгорается любовь37. Поэтому слово ψυχη—душа,— которое Ориген производит от ψυχος — холод, означает для него охладевшую духовную субстанцию, утерявшую из-за удаления от Бога свою первоначальную пламенность.
То первозданное состояние, в котором был сотворен человек, соответствует его состоянию конечному: Бог, ставший «всяческая во всех» посредством созерцания. Действительно, когда книга Бытия повествует нам о сотворении неба «в начале», а затем говорит о том, что на следующий день была сотворена твердь, речь идет о двух различных небесах: о небе духовном и о небе телесном. «Первое небо,—говорит Ориген, — то, которое мы определил как небо духовное — это наш духовный ум (νους, или mens), иначе говоря — наш «духовный человек, видящий и созерцающий Бога; а небо телесное — это человек, видящий очами телесными»38. «Внешний человек» — уже деградация совершенного состояния, состояния человека духовного. Второй день творения с его численностью и множественностью уже есть отход от единства, нисхождение на более низкий уровень. Этот день отмечает начало времени. По мысли Оригена, с этого момента сотворение мира сопровождается ниспадением совершенных существ, созданных «в начале», в существование временное и материальное. «Начало» (αρχη), в котором Бог творил в первый день,— это Слово, Логос. Поэтому творение первого дня есть акт не временный, «до» или, вернее, «вне» времени. Говорить о предсуществовании душ в учении Оригена неточно: ведь идея временной последовательности с ее «до» и «после» — неприложима к соотношению между вечностью и временем. Здесь речь идет скорее о предвечном творении в Логосе, о первозданном, чисто духовном существовании, и о его деградации, о его физическом искажении в результате падения. Видение Бога было истинным бытием духовных существ, созданных в Логосе; Бог был содержанием этой совершенной жизни тварных умов39. От Него отпадая, умы перестают быть тем, чем были. Ум (νους, или mens) меняет свой экзистенциальный уровень, переходит в другой, становится душой, ψυχη входит в исторический процесс, чтобы путем созерцания восстановить свое первозданное состояние чистого ума40.
Душа, хоть она и есть деградированная духовная субстанция, все же сохраняет некую родственность или соприродность с Божественным Логосом, поскольку она сохраняет свое разумное бытие, что дает ей возможность быть причастной Логосу, быть по Его образу41. Совершенство образа есть подобие, которое есть Богови́дение — это и первозданное состояние ума и его состояние конечное. Возвращение к Бо-гови́дению в Логосе (θεολογια), восстанавливая «подобие», осущест-
221
вляет совершенное соединение с Богом, Который снова становится «всяческая во всех».
Такое соединение с Богом через Богови́дение представляется Ори-гену столь тесным и нерасторжимым, что, утверждая реальность ипо-стасного соединения божества и человечества в Личности Христа, он объясняет ее Богови́дением, свойственным душе воплотившегося Христа. Не следует забывать того, что для Оригена душа Христа, вернее, Его ум существовал прежде, т. е. существует вне воплощения. Душа эта никогда не подвергалась падению, как души человеческие, как другие умы, и в акте Боговидения пребывает вечно соединенной с Логосом. Таким образом воплощение Христа представляется ему лишь соединением этой совершенной души, или ума, с телом человеческим, тем соединением, посредством которого Превечное Слово по Своей воле вступает в исторический процесс, становится человеком42. Поскольку душа Христа непрестанно видит Бога в Логосе, постольку и тело Его этим видением обожено, одухотворено. Ориген первый сформулировал учение, получившее впоследствии название «перихорезис», или взаимопроникновение свойств. Такое взаимопроникновение качеств телесных, духовных и божественных для Оригена в личности воплотившегося Христа осуществляется Боговидением. Именно оно и обо́жи-вает человечество Христа, а через Его человечество — человечество всех нас.
Вочеловечившись, Христос соединился с человеческой природой во всей ее целостности43. Созидая Церковь44, Он соединяет ее в Себе как разрозненные члены единого тела. «Поскольку мы, еще не совершенные, пребываем в грехе, Он пребывает в нас отчасти, и поэтому мы знаем отчасти, и пророчествуем отчасти, до тех пор, пока тот или иной член не достигает той меры, о которой говорит апостол: «уже не я живу, но живет во мне Христос». Это, совершающееся в церковном теле, постепенное соединение со Христом представляется Оригену мистическим браком человеческой души с Божественным Логосом, аллегорически описанным в Песни Песней. В этом соединении человек, со своими смертными, искаженными человеческими чувствами, обретает некое иное чувствование, — чувствование бессмертное, духовное, божественное45. «Новое зрение — к созерцанию вещей сверх-телесных; слух, способный различать голоса, в воздухе не раздающиеся; вкус — в наслаждение живым хлебом, сшедшим с небес; обоняние, проникающее в то, что заставило Павла сказать «Благоухание Христово»; осязание, которым обладал Иоанн, когда говорил, что своими руками осязал Слово жизни»46. Здесь мы видим как бы первый набросок учения о духовных чувствах47. Действительно, это учение позднее найдет свое развитие, например, у св. Григория Нисского. Что же до самого Оригена, то его радикальный спиритуализм не позволяет ему полнее развить эту идею об одухотворенных или преображенных чувствах в их восприятии божественных реальностей. В своем Περι αρχων (О началах) он, однако, оговаривается и отмечает, что часто мы к душе относим способности, принадлежащие органам чувств; так, когда говорим, что «видим очами сердца», этим хотим выразить, что наша интеллектуальная способность постигает нечто умозрительное48. Если сказано «Бога не видел никто никогда», то для существ, одаренных разумом, это означает, что Он невидим очами телесными. Ибо одно дело— видеть, другое — знать. Быть видимым и видеть — свойственно
222
реальностям телесным; быть познаваемым и познавать — свойство природ умозрительных49. Всё, что мы можем почувствовать и познать о Боге, будет лишь небольшой искоркой света, которая не сможет дать нам никакого представления о всепревосходстве божественной природы50. Здесь в христианской литературе впервые появляется тема «искры». Тема эта будет широко развита на Западе и займет центральное место в системе Мейстера Экхарта, хотя и в совершенно ином значении, не имеющем ничего общего с учением о духовных чувствах.
В своей 27-й Беседе на книгу Чисел Ориген толкует «остановки» израильского народа в пустыне как этапы по пути к Боговидению. Это «исход» души, постепенно освобождающейся от телесных привязанностей. В начале пути к первым опытам божественного примешиваются искушения. Логос укрепляет душу видениями или посещениями, соответствующими, вероятно, восприятию божественного духовными чувствами, первыми соприкосновениями души с Богом. Но на более высоких ступенях видения прекращаются и уступают место гносису, озарению чисто интеллектуальному, которое стремится стать, и даже уже и есть — созерцание — θεωρια. Впрочем, в гносисе интеллектуальные элементы появляются только в начале: они всё больше и больше исчезают по мере того, как душа соединяется с Христом, как совершается ее духовный брак с Логосом. Этот брак еще не есть вершина восхождения души. Она вышла из сферы телесного, перешла за грани умозрительного, за сферы небесные51; но если она уподобилась Христу, если стала «единым умом» с Логосом, — то для того, чтобы узреть в Нем Бога Невидимого. В Логосе душа — образ (εικων); в ви́дении Бога она возвращает себе утерянное подобие (ομοιωσις), снова обоживаясь, становясь умом совершенным. Действительно, если «очищенный ум превзошел всё, что от материи, то это для того, чтобы придти к благому концу — к Богосозерцанию и тем, что он созерцает — обо́житься»52. Таким образом восстановление первозданного состояния, в котором душа—ψυχη — снова становится умом — νους, совершается путем соединения в Едином Сыне в видении Бога53. «И тогда,— говорит Ориген, — будет только одно действование тех, кто приходит к Богу через Слово, Которое у Бога: это — действование Бого-познания, чтобы таким образом в познании Отца не оставалось бы ничего иного, кроме одного Сына, ибо Сын — Тот Единственный, кто познал Отца»54.
Некоторые критики (Фелькер) считали, что по мысли Оригена в подобном соединении во Единого Сына, созерцающего Отца, человеческий ум совершенно отождествляется со Христом, в Нем обезличивается. Тогда это было бы состоянием экстатичным, выходом из самого себя, подавлением личностного сознания. М. Пюш, в своей рецензии на книгу Фелькера, и Лиске, в труде «Мистика Логоса у Оригена»55, убедительно доказывают, что Ориген был очень далек от подобного понимания соединения с Логосом. У него слово «экстаз» почти всегда имеет смысл пежоративный; он — безумие, потеря умственного равновесия. Когда Ориген говорит о душевных состояниях, которые могут соответствовать экстазу в смысле положительном, он употребляет выражение «трезвенное опьянение»—(νιφαλιος μεθη), оксиморон, позаимствованный им у Филона, который впредь будет иметь распространение в христианской литературе. Божественный Логос не подавляет сознания человека, а переносит его ум за пределы реально-
223
стей человеческих. Ориген говорит, что человек может перестать быть человеком во время этого перехода, приводящего к существованию духовному, но от этого он не теряет своего личностного сознания.
Логос — последний этап, но все же Он — этап, долженствующий привести к Боговидению. Если Логос «у Бога», значит Он — Бог; и поистине не был бы Он Богом, если бы не был «у Бога», в непрестанном видении бездны Отца 56. Также и созданные по образу Логоса, соучаствуя с Ним в этом видении, становятся богами. Не через Логос, не Его посредничеством, но в Нем и с Ним умы людей, достигших совершенства, видят Отца в непосредственном видении или познании.
Здесь следует отметить, что для Оригена Сын, хотя и той же сущности, что Отец, хотя Он — Бог по Своей сущности (κατ' ουσιαν), а не по причастности, все же Он — Бог вторичный, подчиненный Отцу в качестве орудия Его проявления. «Ведь сказано: «Кто Меня видел, видел Отца, пославшего Меня», а не «кто видел Отца, видел Меня»; следовательно, видеть можем мы только исходя от Сына, от Сына восходя к Отцу. Как ступени храма вели к Святому Святых, так Сын содержит в Себе ступени, ведущие от Его человечества к Его Божеству, к тому, «что Он есть». Существует известная градация в познании Бога; нарушая этот порядок, мы не можем достичь совершенного познания Отца. Так не можем мы видеть Отца, чтобы затем познать Премудрость или Истину, но от Премудрости Божией восходим к Отцу Премудрости. Сначала познав Истину, можем мы потом достичь видения сущности или могущества и природы Бога, которая сущность превышает» 57.
Как и Климент, Ориген раскрывает нам то, что является объектом Богосозерцания, последней целью созерцания — θεωρια, пределом богословия— θεολογια. Это — сама сущность или «свойство и природа Бога, превосходящая сущность», которую умы, достигшие совершенства, восстановленные в своем первозданном состоянии, видят, или, точнее, познают совместно с Единым Сыном, будучи едиными с Ним в этом действии видения. Если Сын, вопреки тому, что Он, по учению Оригена, той же сущности, что Отец, представляется ему «ступенью» к ви́дению сущности, то это происходит потому, что для Оригена Отец есть самосущность, первичная простота Божественной природы, именно эта Божественная природа — Отец, или просто «Бог», и является объектом обоживающего созерцания в будущем веке. И еще в другом месте58 Ориген нам говорит, что «Бог — природа простая, не терпящая в Себе никакого добавления»; «всесторонне Единица и как бы Единство и Ум, Он — источник, в котором берет свое начало всякая разумная или духовная природа». «Простота божественной природы состоит как бы в одном единственном виде (species), в виде Божества».
Таким образом мы удостоверились в том, что ви́дение Бога в Его сущности заключено у Оригена в рамки интеллектуалистического учения, где ви́дение означает знание (гносис), а знание в конечном счете равносильно созерцанию умопостижимых реальностей. Здесь мы уже далеки от эсхатологического ви́дения св. Иринея, в котором превечный свет Отца проявляется в прославленном теле Сына, чтобы сообщить воскресшим людям нетленность вечной жизни, соучастие в жизни божественной. В александрийском богословии появляется новая тема — тема мистического созерцания. Но она еще слишком связана с интел-лектуалистическим идеалом созерцания платоников.
224
Неверно говорить о платонизме отцов каждый раз, когда речь заходит о созерцании, и ограничивать подлинно христианское Богови́-дение одним его эсхатологическим проявлением, как делает это Ниг-рен. Проблема Богообщения в Богосозерцании так или иначе должна была встать перед духовным опытом христиан. Созерцание — достояние не одних только платоников, а если бы оно и было таковым, то платонизм, в широком смысле слова, просто означал бы всякую духовную устремленность к приобщению вечным реальностям, в котором ступени созерцания соответствовали бы постепенному обожению существ человеческих, пребывающих в состоянии условном. В этом весьма обобщенном смысле почти что всё религиозное мышление можно было бы принимать за неосознанный платонизм, и уж во всяком случае всё религиозное мышление средиземноморского мира первых веков нашей эры было бы, в этом смысле, «платоническим».
Христианское учение не могло не ответить на это общее чаяние: оно открыло путь христианского созерцания, в котором осуществляется общение с Богом Живым, с личностным Богом Откровения. Первая попытка такого ответа была сделана такими апологетами, как Климент и Ориген, величайшая забота которых состояла в следующем: показать язычникам, что все сокровища эллинской мудрости содержатся в истинной философии, в философии Церкви, и что этой философией они превзойдены. Поэтому они невольно создали некий синтез, придав тем самым христианскому созерцанию чуждый духу Евангелия оттенок платоновского интеллектуализма или спиритуализма.
Ви́дение сущности Бога, познание Бога по Его сущности у Оригена обнаруживает интеллектуалистическую основу его мышления: это — созерцание Бога, как умопостижимой, в высшей степени простой природы; это — понятие о человеке, как о существе преимущественно духовном и родственном Богу — Сущности, Источнику умопостижимых существ, ибо природа душевная и телесная есть аномалия, нечто такое, что в конце концов должно исчезнуть, раствориться в субстанции духовной, в уме (νους), живущем созерцанием Бога. Всё богатство тварного мира — результат искажения, деградации природ духовных. Неясно и само понятие тварного бытия. Представляется, что для Оригена демаркационная линия проходит между родственной Богу областью духовной и миром психоматериальным, а не между Существом по своей природе Божественным и существом из «не сущего» сотворенным. Его Бог — это прежде всего Бог «духов», а не Бог «всякой плоти». Он — Бог существ, одаренных интеллектом, скажем — Бог существ интеллектуальных в сильном смысле слова. Когда Ориген говорит нам об интеллектуальном труде тех, кто исследует причины вещей, о том труде, который будет продолжен святыми после их смерти в земном раю, который он называет «местом учености» (locus eruditionis). «аудиторией или школой для душ» (auditorium vel schola animarum), то этот рай школяра и преподавателя невольно вызывает улыбку. Закончив образование в этой школе, проходишь курс усовершенствования в различных отделениях — mansiones, которые греки называют сферами, а священное Писание — небесами. Здесь, будучи в состоянии совершенной чистоты, мы исследуем «лицом к лицу» причины существ твар-ных, еще до того, как сможем увидеть Бога, т. е. «познавать Его разумом, в чистоте сердца» (videre Deum, id est inteligere per puritatem cordis) 59. «Чистые сердцем», исследующие божественную природу, пос-
225
ле познания ими умопостижимых причин существ тварных, походят скорее на прилежных ученых, нежели на церковных святых.
Но не будем несправедливыми. Личность Оригена была слишком глубокой, чтобы ее выражало одно только интеллектуалистическое учение о Богови́дении. Рядом с интеллектуалистическим Оригеном «Начал» и апологии «Против Цельса» стоит другой Ориген, толкователь «Песни Песней», Евангелия от Иоанна, автор Омилий. Это — Ориген, ревностный и горячий, не доктринер, а человек, склонённый над кла-дязем тех виде́ний, которые внезапно раскрываются в душе от изучения Священного Писания — хотелось бы сказать — Ориген-мистик, если бы только это слово, желая выразить слишком многое, в большинстве случаев не имело бы уже вообще никакого смысла. Он был грек, стремившийся к интеллектуальному созерцанию, и в то же время ревностный христианин, проповедующий мученичество за Христа, ищущий конкретного осуществления соединения с Богом в жизни аскетической и молитвенной. Иной раз интеллектуальный грек стушевывается перед учеником Христовым, тогда, например, когда Ориген говорит нам, что в молитве делание и созерцание, практика и гносис сливаются в едином действии — действии молитвенном. Это — уже разрешение проблемы, уже выход из сферы платонического созерцания.
Но как бы то ни было, надо нам согласиться с о. Фестюжьером, что вместе с Климентом и Оригеном в Церковь проникает мир эллинский, внося в нее тем самым элементы, чуждые христианскому преданию, элементы религиозного умозрения и интеллектуальной духовности, свойственные миру совершенно иному, миру не евангельскому. Мир совершенно иной — а для александрийских язычников и христиан— тот же. Можем ли мы раз и навсегда определить степень принадлежности христианина Церкви, и меру его участия своим мышлением, своими чувствами, своими реакциями в жизни мира, в которую он погружен? Не следует воображать, будто между христианами и язычниками существовали непроницаемые стены, а особенно в Александрии, где как одни, так и другие были носителями одной и той же культуры, участниками одной и той же интеллектуальной жизни. Ориген и Плотин вместе учились у Аммония Саккаса, основателя неоплатонической школы. Эти два человека друг друга знали и уважали. Порфи-рий в своей «Жизни Плотина» рассказывает, как однажды Ориген пришел на лекцию Плотина. «Он покраснел и хотел встать; Ориген попросил его продолжать, но тот ответил, что говорить больше не хочется, когда ты уверен в том, что обращаешься к людям, знающим то именно, что и собираешься сказать. Он еще немного продолжил свое рассуждение, а затем встал и вышел»60. Эти два человека, языческий философ и христианский богослов, в различных религиозных обрамлениях параллельно развивали одни и те же темы, характерные для духовного аспекта эллинизма: побег, исчезновение из мира чувственного. Это небесное путешествие совершается не ногами, говорит Плотин, а созерцанием, уподобляющим душу Богу, восстанавливающим в ней подобие Ему тем, что возвращает ее в ее отечество, где ждет ее Отец. Порфирий говорит, что возводящим чрез разум озарением Плотин видел того Бога, у Которого нет ни формы, ни сущности, ибо Он пребывает по ту сторону ума и умопостижимого... Для него концом и целью было приближение и соединение с тем Богом, Который над всем. Пока я был с ним, он четыре раза достигал этой цели, благода-
226
ря какому-то неизреченному действию, а не по своей собственной силе61. Здесь тот же интеллектуальный мир, почти что тождественный духовный строй как у Плотина, так и у Оригена, как у александрийских созерцателей язычников, так и у созерцателей христиан. Здесь не «заимствования» и «влияния», ибо две системы духовности вырабатываются одновременно. Это скорее естественная родственность. Одна и та же культурная традиция, выражающая себя не только на общем языке, не только в общей «технической терминологии», но в одной и той же глубинной позиции по отношению к конечной цели человека. Вместо того, чтобы христианизировать духовный опыт эллинов, Климент и Ориген чуть ли не «оспиритуализировали» христианское учение. Но благодаря им эта эллинистическая «духовность», эта интеллектуа-листическая или сверхинтеллектуалистическая мистика, раз уже введенная в круг Церкви, будет Ею поглощена, полностью преобразована и превзойдена. Понадобятся целые века борьбы, сверхчеловеческих усилий, чтобы, освобождая его от природных пут, от этнических и культурных ограничений, эллинизм этот превзойти, дабы стал он в конце концов вселенской формой христианской Истины, самим языком Церкви. Если эта борьба развернулась, главным образом, вокруг памяти Оригена, надо сказать, что началась она уже в самой беспокойной и сложной душе великого александрийского учителя. Как на его учение нападавшие, так и учению этому следовавшие, и те и другие в одинаковой мере пытались преобразовывать его интеллектуализм, прежде всего в плане догматическом, где платоновские концепции кристаллизовались у Оригена в спиритуалистическое учение о пред-существовавших душах, которые деградировали в существование психоматериальное, но могут снова достичь своего первичного состояния путем созерцания. В своей реакции против оригенизма христианские богословы сохраняют терминологию, свойственную александрийскому мышлению, но всё дальше и дальше отходят от его исходной точки, общей как для Оригена, так и для Плотина. Спасение, как побег из мира, как «мысленное бегство», будет восприниматься как ограниченность, как спиритуалистическое искажение. Ведь действительно речь идет не о том спасении, которое бы из мира вырывало, а о том, которое бы в Слове, ставшем плотью, открывалось бы для тварного мира. Гносис, интеллектуальное или сверхинтеллектуальное созерцание всё больше и больше воспринимается как один из необходимых моментов общения людей с Богом, однако от этого он не становится «путем преимущественным», ведущим к обоживающему общению.
* * *
В той же Александрии св. Афанасий Великий (293—373) больше говорит о обожении (θεωσις), к которому призваны тварные существа, нежели о Боговидении. В своем раннем труде «Слово против язычников»62, в котором еще звучат некоторые оригеновские отголоски, он говорит об Адаме как об экстатике, который, «поднявшись над вещами чувственными и всяческими препятствиями к божественному гносису, по чистоте своей непрестанно созерцает Образ Отчий, Бога Логоса, по образу Которого он создан». Однако то Богови́дение, которое было свойственно Адаму в земном раю, обретает в образе мыслей св. Афанасия совершенно иной, не оригеновский оттенок. В трактате «О Воплощении»63 Богови́дение представляется ему необходимым
227
условием для всецелого обожения Адама: если бы, созерцая Бога, он смог бы сохранить в себе свое Ему уподобление, он уничтожил бы всякую возможность греха в своей тварной природе и стал бы навсегда непогрешимым. Как и у св. Иринея, ви́дение означает здесь известное участие в состоянии безгрешности, известную непоколебимость человека, причастного свойственной Логосу творческой силе: «Ни солнце,— говорит далее св. Афанасий, — ни луна, ни небо, ни вода, ни воздух не отошли от порядка; но благодаря познанию Логоса, их Творца и Царя, они пребывают такими же, какими были Им сотворены»64. В самом акте творения св. Афанасий различает два момента: создание тварного бытия и вхождение Бога в мир, то присутствие Логоса в тварном, которое накладывает на каждое тварное существо Его отпечаток, как некий знак божественного приятия. Это есть тот принцип, по которому Бог дает познание о Себе в Своем творении, и одновременно вложенная в тварное бытие возможность нашей причастности Логосу. Делом Своего Воплощения Логос становится началом новой жизни. Он снова становится «Началом путей Божиих в Его творении». Это — как бы новое творение, в котором воскресшее тело Христа становится корнем нетленности тварных существ. «Слово стало плото-носным (σαρκοφορος), чтобы люди могли стать духоносными (πνευμα-τοφοροι)»65. Если Святой Дух сообщает нам небесную жизнь, подавая способность познания, гносис об Отце и Его Логосе66, то такое познание уже не источник, а плод нашего уподобления Слову. Не интеллектуальное познание климентовских «гностиков» или оригенов-ских «духовных» сообщает нам непогрешимость. Христианский идеал св. Афанасия — совсем не эллинистическая утопия, и у него нет ничего общего с «бегством» платоников. Св. Афанасий находит этот идеал в самой жизни Церкви, в этом самом Египте. Написанное им «Житие преп. Антония» (мы не видим никаких серьезных причин для сомнения в подлинности его авторства) дает нам конкретный пример в отшельнике Фиваиды, осуществляющем приобщение Богу в своей борьбе с грехами. Богосозерцание в платоновском смысле слова, и даже Богови́дение, как самоцель отшельнической жизни, совершенно чуждо духовной жизни пустынножителя. Это совершенно иная духовная среда, не имеющая ничего общего с интеллектуальным миром Александрии, миром Оригена и Плотина. Для св. Афанасия именно эта среда и является осуществлением христианского идеала: приобщение Богу в воплотившемся Слове, Христе, победившем грех и смерть, и сообщившем тварной природе начало нетленности в залог будущего обожения.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Festugière. L'enfant d'Agrigente. Paris, 1941, p. 131-146.
2 Там же, с. 138.
3 Там же.
4 Там же, с. 139.
5 Строматы, V, 11. PG 9, coll. 101 — 108.
6 Педагог, I, 8, PG 8, col. 336.
7 Строматы, II, 2. PG 8, coll. 936—937.
8 Там же, V, 12. PG 9, col. 116.
9 Там же.
10 Там же, V, 11. PG 9, col. 112.
11 Там же.
228
12 Там же.
13 Там же. V, 12. PG 9, col. 116.
14 Там же, V, 12. PG 9. col. 109.
15 Там же, V, 13, coll. 124 - 125.
16 Там же, II, 22. PG 8, col. 1080.
17 Там же, II, 10. PG 8. col. 984.
18 Там же, IV, 22. PG 8. col. 1345.
19 Там же, VII, 10. PG 9, coll. 480 - 481.
20 Там же, VII, 11. PG 9, col. 196.
21 Там же, V, 1. PG 9. col. 17.
22 Педагог I, 6. PG 8, col. 293.
23 Строматы VI, 8. PG 9, coll. 289—292.
24 Там же.
25 Там же.
26 Там же, IV. 22. PG 8, coll. 1345 -1348.
27 Corpus Hermeticum, collection Budé́й, I, Traité X, p. 112 s.
28 Там же, Traité XII, 173 s.
29 Строматы VI, 4. PG 9. col. 253.
30 На Лев., XIII, 3. PG 12, col. 547.
31На Иоан., I, 7, 43. PG 14, coll. 36-37.
32 Фрагменты толк. на Иоан., № 80, CGS, 10, 547.
33 На пс. CXXXIII. PG 12, col. 1652.
34 Ha пс. CXVII. PG 12, col. 1581.
35 О началах. III, 6, I. PG 11. col. 333.
36 Там же, III, 6, 3, col. 356.
37 Там же, I, 3, 8, col. 155.
38 I Беседа на Бытие, § 2. Sources chrétiennes, 7, p. 65.
39 О началах, II, 6, 3. PG 11, col. 211.
40 Там же, II, 8, 3. PG 11, coll. 222-223.
41 Там же, IV, 36. PG 11, coll. 411-412.
42 Там же, II, 6, 3. PG 11, col. 211.
43 Толк. на Иоан. 10, 41.
44 Беседа VII на Лев., 2.
45 О началах I, 1, 8. PG 11; col. 129 С.
46 Против Цельса. PG 11, col. 749 АВ.
47См. Rahner. Le début d'une doctrine des cinq sens spirituels chez Origène. RAM,
1932. p. 113—145.
48 О началах, I, 1. 9. PG 11, coll. 129—130.
49 Там же, 8, coll. 128 -129.
50 Там же, I, 1. 5. PG 11, col. 124.
51 Против Цельса. VI. 20. PG 11, coll. 1320—1321.
52На Иоан. XXXII. 17. PG 14, col. 817 A.
53 О началах, III, 6, 3. PG 11, coll. 335—336; на Иоан. I, 16. PG 14, coll. 49- 52.
54На Иоан., I, 16. PG 14, coll. 49-52.
55 Lieske. Theologie der Logosmistik bei Origenes, Münster, 1938.
56 На Иоан., II, 2. PG 14, col. 109.
57 Там же, 19, I, col. 536 С.
58 О началах, I, 1. 6. PG 11. coll. 124-126.
59 Там же, 2, 11, coll. 240-248.
60 Жизнь Плотина, изданная в виде предисловия к Эннеадам. Собрание Бюде, I,
с. 15-16.
61 Там же, с. 26- 27.
62 Против язычников, § 2. PG 25, coll. 5С- 8В.
63 О воплощении. 4. PG 25, col. 104С.
64 Там же, 43. PG 25, col. 172В.
65 О воплощении и против ариан. 8. PG 26, col. 991С.
66 Письмо к епископам Египта и Ливии, 1. PG 25, col. 540 А.
229
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
